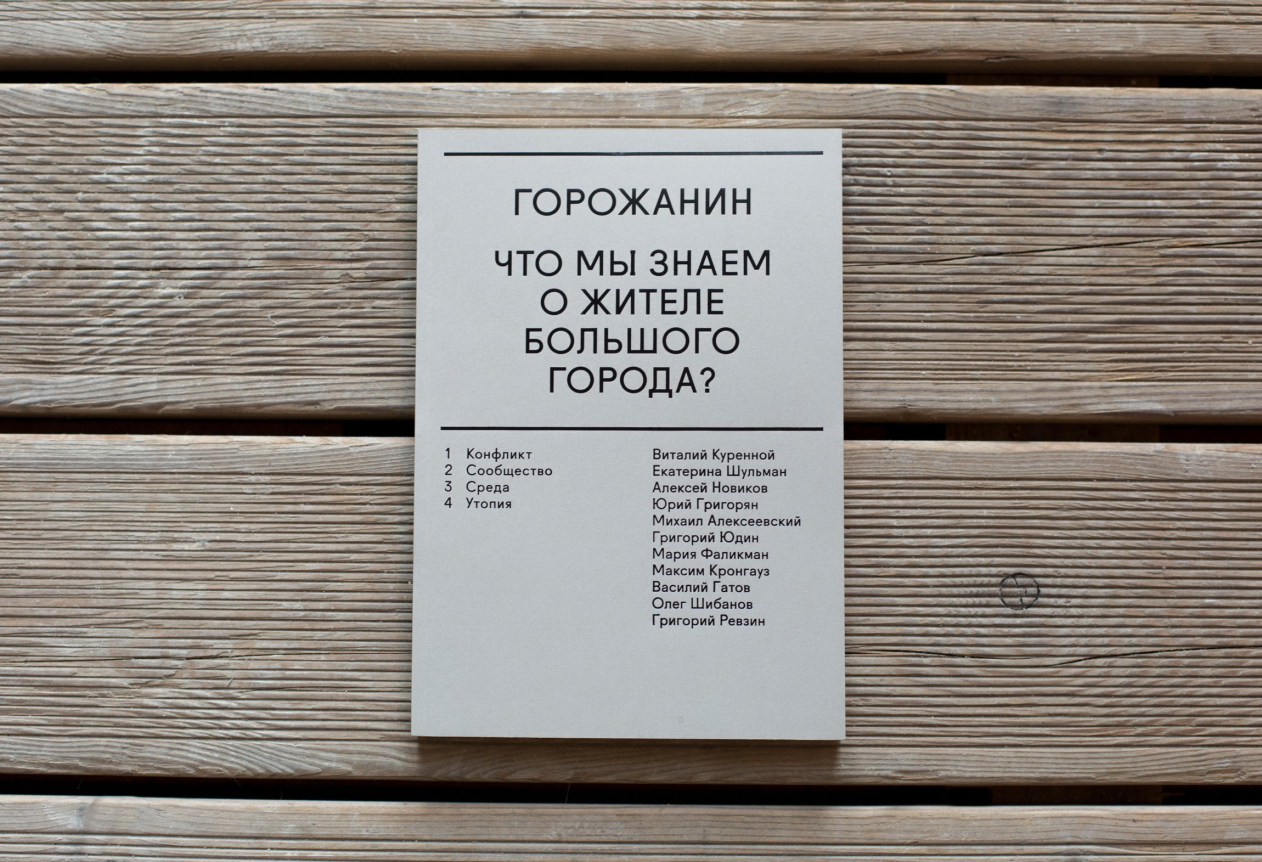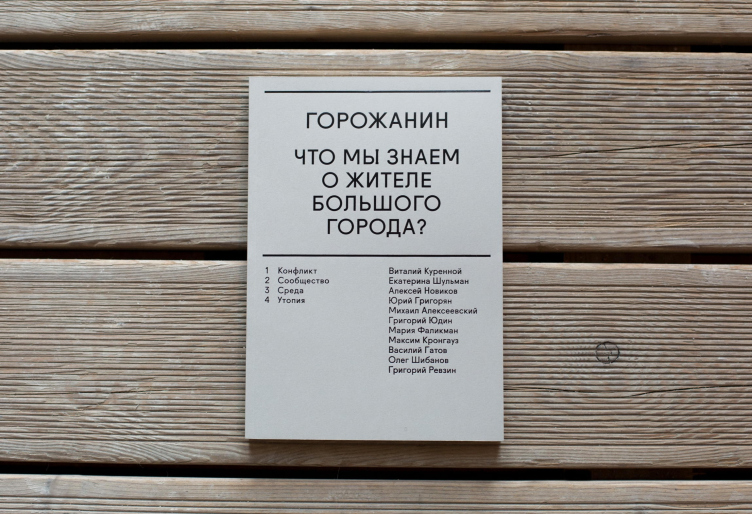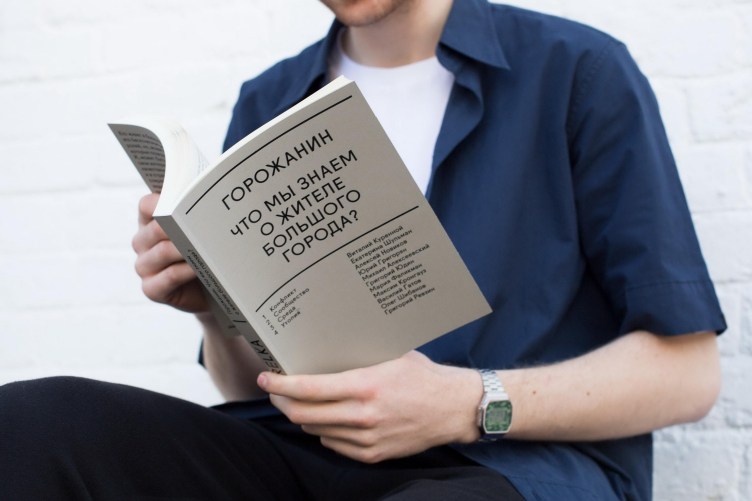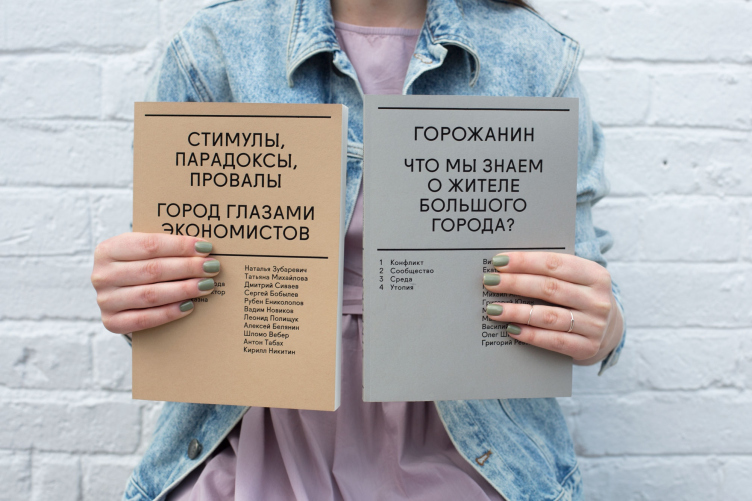С любезного разрешения Strelka Press публикуем статью «12 москвичей, не мокнущих под дождем. Идеальный горожанин в XX веке» Григория Ревзина из сборника «Горожанин: что мы знаем о жителе большого города?» (М.: Strelka Press, 2017).
Возникают сомнения в возможности определить некий образ горожанина 2010-х, 1980-х, 1960-х, 1930-х и других годов – любого синхронического среза. Мне кажется, это не вполне удается сделать ни методами социологии, ни антропологии, ни культурологии, потому что образа горожанина своего времени, быть может, и не существует. «Образ горожанина» скорее представляет собой некий рынок, на котором продаются маски социальной идентификации, и эти маски в большей степени не согласуются между собой, чем представляют разные грани одного явления. Город, как учил нас блаженный Августин на примере Небесного Иерусалима, есть единство urbs (собрания зданий) и civitas (собрания горожан). Кажется, Роман Ингарден в «Исследованиях по эстетике» впервые сказал, что архитектура – это то, что «не мокнет под дождем» (Нотр-Дам как физическое тело мокнет, но архитектура собора – нет). Но если есть непромокаемый urbs, имеет смысл подумать и о непромокаемом civitas. Я хотел бы поговорить о тех горожанах, которые нигде не живут, не работают, не входят ни в какие сообщества, не мокнут под дождем, но тем не менее некоторым образом существуют.
В 2012 году, когда культурой Москвы с точки зрения правительства города руководил Сергей Капков, одна влиятельная дама сказала мне: «Проблема в том, что все, что мы делаем, делается для человека с Болотной, а наш избиратель – на Поклонной». Политическое настроение 2012 года, когда на Поклонной собирались сторонники власти, а на Болотной наоборот, заставило тех, кого принято называть decision maker, осознать наличие двух несхожих образов горожан и поставить вопрос о соответствии программы собянинских преобразований Москвы какому-либо из них. В результате Сергей Капков отправился в область политического небытия, однако его образ горожанина, как ни странно, от этого не пострадал. Напротив, грандиозная реконструкция Москвы в 2014–2015 годах основывалась именно на этом образе идеального москвича.
Этот образ с легкой руки Юрия Сапрыкина обозначается как «хипстер». Это первый из числа горожан, не мокнущих под дождем. Субкультура хипстеров многажды обсуждалась, это отдельная тема, мне бы хотелось обратить внимание на один аспект. Запрос на общественные пространства, в которых можно просто проводить время («тусить»), не проявляя ни деловой, ни потребительской активности, декоммерциализация (борьба с киосками, выдавливание магазинов роскоши), демократические городские кафе (вместо ресторанов) и парки, особое внимание к городским сообществам, социальным сетям (повсеместное распространение свободного Wi-Fi), к озеленению, борьба с автомобилистами и не вполне объяснимая любовь к велодорожкам – все это связанная система ценностей. Конечно, каждую из мер по внедрению этих ценностей в среду Москвы по отдельности можно объяснить и не прибегая к слову «хипстер», но их соединение вместе создает четкое впечатление, что в Москве выборы выиграл студент с левыми зелеными убеждениями.
Людей, разделяющих такую программу, в Москве немного. Во-первых, это только молодежь, а ее в Москве вообще мало, во-вторых, молодежь образованная и включенная в европейский контекст – тут вряд ли можно надеяться даже на 1% населения. Черты программы, то есть связанной системы мер, она приобрела не у нас, а в Америке и в Европе. Именно там «урбанистика» как общественное движение вобрала в себя многие ценности hippie – ценность сообществ, сомнения в ценностях бизнеса и государства, потребность в общественных пространствах для проведения времени, антикоммерческое поведение, альтернативный транспорт, неумеренную тягу к озеленению и т.д. Мы получили это как готовый продукт, набор решений, которые уже были опробованы в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Барселоне, и воспроизвели без рефлексий.
Ни в коей мере хипстер не был горожанином мечты для власти. Если попытаться по-журналистски определить ее идеал, то, перефразируя название романа Айн Рэнд, его можно было бы обозначить формулой «комсорг расправил плечи». Комсомольцы позднесоветского времени являли собой наиболее радикальный результат советского опыта воспитания «двоемыслия». С одной стороны, они свободно чувствовали себя в координатах прозападной молодежной культуры, с другой, полагали, что активная публичная поддержка государственной идеологии способна обеспечить их карьерный и материальный рост. Они конкурировали друг с другом за то, чтобы быть замеченными в этой поддержке, и как любая конкуренция, эта выбрасывала наверх наиболее законченные, совершенные образцы этого человеческого типа. Эта позиция не давала никаких преимуществ в 1990-е и начале 2000-х годов, поэтому казалось, что этот тип ушел в прошлое. Но в 2010-е он, напротив, оказался очень востребован и немедленно возродился. Публичные патриотические и ксенофобские акции, погромы выставок, нападения на «врагов государства» создали устойчивую новостную повестку жизни города после покорения Крыма.
В известном смысле это и был тот самый избиратель с Поклонной. Но что интересно – у него нет своего пластического выражения. В 2014-м на открытии Олимпиады в Сочи Константин Эрнст попытался предложить этому идеальному свой язык – парад русского государственного авангарда по маршруту от Стравинского до Гагарина. Это ритуальное шествие вроде бы скрепляло расщепленное сознание комсорга – тут и прославление государства, и авангардные ценности всемирного модерна. Однако несмотря на пропагандистский потенциал Первого канала, духовная скрепа не приклепалась. Реконструировать столичное пространство в стиле «купания Красного Трактора» никто не стал.
Вместо этого власти предпочли скорректировать излишне европейский образ общественных пространств Москвы методами «вторичного благоустройства». В хипстерскую парадигму инсталлировали народные орнаменты из ЦПКиО и ВДНХ времени пятилетки борьбы с космополитизмом (1948–1953). Поскольку орнаментируются в первую очередь световые конструкции, возникает несколько эклектичный образ ночного хипстера в косоворотке.
Фото © Институт «Стрелка»
Фото © Институт «Стрелка»
Трудно сказать, насколько образы хипстера и комсорга соответствуют актуальному образу сегодняшнего горожанина за некоторым отсутствием такового. У нас нет выраженного культурного героя, вернее эта фигура мало героизирована. Но если говорить о наиболее распространенном типе культурного поведения, то это, как мне кажется, человек сети. Именно в социальных сетях происходили сравнительно интенсивная социальная жизнь, поиски ценностей и живые дискуссии.
Человека сети (он же представитель креативного класса) можно считать идеальным горожанином 2010-х. И хипстер, и комсорг ему равно отвратительны. Однако его физическое бытие достаточно проблематично – тут стоит вспомнить главного героя пелевинского «Снаффа» Данилу Карпова, неуспешное в физическом мире существо, перенесшее в сеть любого рода активность и стремление к самоутверждению. Трудно представить себе, какого рода городская среда нужна такому персонажу – никакая, кроме виртуальной.
Насколько шизофреничность данной ситуации специфична для нашего времени?
Возьмем позднесоветское время. Профессиональный идеал определяется легко, ценность городской среды в этот момент в первый раз программно заявлена и программа реализована – реконструирован старый Арбат. Это было очень острое высказывание. Во-первых, пешеходная, во-вторых, улица. Пешеход, а не автомобиль, символизирующий дух прогресса и техники. Улица с красной линией, с фасадами домов, с лавочками, фонарями, плиткой– полная противоположность модернистским кварталам Ле Корбюзье и их идеальному выражению – Новому Арбату. Улица не главная, не государственная, не предназначенная для парадов и демонстраций, а рядовая. Где историческое здание ценно не как памятник, не как выдающееся произведение архитектуры или выдающееся историческое место, но именно в своем рядовом, невыдающемся качестве.
Источник этого профессионального идеала также легко определим. Альберт Гутнов, придумавший реконструкцию Арбата, опирался на тренд антимодернистской реакции в архитектуре 1970-х, на Луиса Мамфорда, Джейн Джекобс, Кристофера Александера, Кевина Линча, которых активно пропагандировал его друг Вячеслав Глазычев, на тот круг идей, которые впоследствии привели к доктрине «нового урбанизма». Пешеходные улицы, которые сегодня являются обыденностью любого европейского исторического города, тогда были еще не так распространены и по-настоящему модны. Мы даже не слишком опоздали в этом тренде – многие европейские города обзавелись ими уже после Москвы.
Было, однако, одно существенное отличие старого Арбата от европейских пешеходных улиц. Они были функциональны, они делались прежде всего как торговые зоны. Это была программа реабилитации исторических центров, которые (о чем все забыли) сильно деградировали в послевоенное время, и программа удачная – все сегодняшние центры европейских столиц, представляющие собой растянутый по улицам шопинг-молл, как раз и родились из этих программ. Но на старом Арбате было нечем торговать, это была советская улица, и, кроме антикварного магазина и матрешек для туристов, она ничего предложить не могла. Когда вы рассматриваете проектные перспективы гутновского Арбата, люди там гуляют и поют, но ничего не покупают, потому что покупать нечего. Профессиональный идеал горожанина в этот момент – это «дворянин арбатского двора», который живет духовной городской жизнью, потребляя городские виды и поэтические строки. Новый урбанизм был неведом московским гражданам, до известной степени он остался профессиональной экзотикой вплоть до нынешних времен. Однако профессиональная парадигма была продана москвичам как реализация местного тренда – старых арбатских ребят, разработанного Булатом Окуджавой и некоторыми другими шестидесятниками. Собственно, поэзия Булата Окуджавы и привела к тому, что именно Арбат был выбран для превращения в парадный портрет московской повседневности. Это было величественное и созданное с большой любовью и мастерством мифологическое построение, но нельзя не заметить, что к 1980 году, когда Гутнов осуществил свой замысел, оно было уже давно построено. Этот герой уже не был «общекультурным идеалом» горожанина в 1980-е годы. К этому моменту «старые арбатские ребята» разъехались из центра, местом обитания московской интеллигенции стали Останкино и Кузьминки, Химки-Ховрино и Беляево, и мифология была уже иной. Вновь для простоты и экономии усилий попробую определить этого культурного героя через литературу – это «Альтист Данилов» Владимира Орлова, появившийся в том же 1980 году, когда открыли Арбат. Напомню, главный герой этого романа – демоническое существо, некая иномирная форма жизни – живет в человеческом облике в типовом доме в Останкино, работает альтистом и вместе с тем регулярно воспаряет в иные измерения, в небеса и в Космос, купаясь в молниях и приземляясь то в Испании, то в самом основании мироздания, где стоит большой синий бык. Этот образ интеллигента из панельной квартиры, дух которого носится по всему миру, взлетает в небеса и проникает во глубины не вполне легально, но вполне вольготно, и был «общекультурным типом» позднесоветского времени с его невероятным по нынешним временам интересом к истории, философии, оккультным практикам и духовным исканиям. Ему, разумеется, бесконечно не хватает интернета – тогда бы его блуждания в виртуальности могли опереться на твердую архитектуру виртуального мира. Арбат ему показался провинциальным, советским и убогим, этот первый пример московского благоустройства горожане не приняли точно так же, как и нынешние – собянинские эксперименты. Он для них уже безнадежно устарел.
Власти что арбатские ребята, что демонические существа были равно чужды. Однако герою власти в этот момент свойственна известная душевность, далекая от того радикального цинизма, которую демонстрируют более поздние комсомольцы. Молодыми в геронтофилическую эпоху Брежнева считаются сорокалетние, и идеальным героем можно назвать Штирлица из «Семнадцати мгновений весны». Это «трагический конформист», глубоко и эффектно мимикрирующий под официальную государственную жизнь (как он хорош в форме!) и вместе с тем несущий глубоко в душе нетленный образ родных березок, а через них – подлинность жизненной правды. Этот образ был парадно предъявлен в том же 1980 году, на открытии Олимпиады-80, синтезировавшей грандиозный «парад народов» с сентиментальностью «ласкового Миши», маскота Олимпиады, который даже позволял себе слезу на прощание. Хотя, вероятно, ни у кого не было сомнений, что в обычное время ласковый Миша является членом партии и умеет держать себя в руках, но с друзьями позволяет себе расслабиться и всплакнуть.
Средовая сложность этого персонажа в том, что он в своей душевной ипостаси – не горожанин, его идеальное пространство – это природа, деревня, рыбалка, охота. Поэтому образцы созданной для него среды проще найти в партийных санаториях, выстроенных под влиянием творчества Альвара Аальто, – прямоугольники с закруглениями. Архитектура «сияющего соцмодернизма» – обкомы и райкомы позднесоветского времени – в меньшей степени передает внутреннюю жизнь этого горожанина, если только не принимать за ее воплощение облицовку каменной плиткой, к которой удивительно подходит определение Маяковского «мраморная слизь». Согласитесь, в слизи есть нечто сентиментальное.
Определенным выражением двойственности этого персонажа является стремление к строительству своего рода модернистских замков – микрорайон «Лебедь», здание АПН, «раковый корпус» на Каширке – парадный мундир снаружи и немудрящая сложность дворов внутри.
Старые арбатские ребята, демоны и Штирлиц – не менее разношерстная компания. Отправимся еще на 20 лет назад.
Профессиональный идеал эпохи 1960-х прост и понятен, как прямоугольник, – это Черемушки, та самая среда, из которой убегает в виртуальность будущий альтист Данилов. Архитектура этого времени имеет своих адептов, при некотором профессиональном напряжении можно найти глубочайшие различия между Зеленоградом и Северным Чертаново, и, вероятно, в этих поисках есть смысл. Однако в средовом отношении разнообразие не слишком ощутимо – это город больших пустырей с редкими прямоугольными объемами разной степени стандартности. Источник этой моды тоже прост и очевиден – большой послевоенный модернизм, победное шествие Корбюзье с легким акцентом Нимейера.
Сегодня достаточно трудно представить себе горожанина, и вообще человека, которому бы соответствовал этот профессиональный идеал. Сам Корбюзье не считал возможной городскую жизнь без автомобиля, так что горожанином для него являлся автомобилист, дом являлся «машиной для жилья», а город – парковкой. В этом смысле пеший человек в таком пространстве является средовым нонсенсом. Однако большинство москвичей провели ХХ век в неавтомобилизированном состоянии, так что какой-то горожанин все-таки имелся в виду.
Видимо, 1958 год следует считать началом краткого, но победного шествия геолога в умах современников – в этом году выходит культовый фильм Николая Калатозова «Неотправленное письмо», где герои бредут по тайге, выясняя личные отношения. В 1962 году Павел Никонов выставляет первую картину «сурового стиля» – те же «Геологи», проникнутые лирической мистикой Павла Кузнецова. В 1964 году в Большом театре даже был поставлен балет «Геологи» Владимира Васильева и Натальи Касаткиной, в основе либретто – тот же очерк Валерия Осипова о первооткрывательнице алмазов в Якутии Ларисе Попугаевой, что послужил основой и сценария Николая Калатозова. Это время, когда геолог как-то выделен в отдельную важную культурную фигуру.
Мне кажется, главным для профессионального идеала архитекторов этого времени был пафос покорения пространства как такового, пафос колонизации природы геометрией, и идеальная фигура горожанина для них – колонизатор. Геолог. Это не совсем городской человек, и в городской среде он проводит мало времени, в основном пребывает в состоянии оторванности от дома. Но когда он возвращается, его радуют бескрайние районы пятиэтажек, широкие просторы лесопарков, заснеженные тракты Фестивальных улиц – контраст этой городской среды с тайгой не слишком велик.
Трудно сказать, однако, насколько именно этот герой являлся распространенным культурным типом. Как минимум он амбивалентен – в бардовской песне, самом демократичном способе приобщения к культурному содержанию эпохи, он постоянно дополняется как раз «ребятами нашего двора», которые станут профессиональным идеалом на 20 лет позже. Больше того, колонизаторский пафос для них становится своего рода сном, мороком – как у Окуджавы в «Простите пехоте…»:
Нас время учило: живи по привальному, дверь отворя.
Товарищ мужчина, как все же заманчива должность твоя,
Всегда ты в походе, и только одно отрывает от сна –
Куда ж мы уходим, когда за спиною бушует весна?
Специфика сталинской реконструкции Москвы заключалась в том, что парадные магистрали – Садовое кольцо и торжественные радиусы – прорезали старый провинциальный город, оставив почти нетронутыми переулки. На сталинских магистралях поселилась номенклатура, а переулки оказались своего рода гетто для людей, как бы по ошибке доживавших свой век, – старый инженер, учительница немецкого из бывших, отставной чин РККА, партиец из «уклонистов», антиквар-старьевщик. Вот эти люди, точнее их дети, пережившие сталинский морок, и вышли из переулков в 1960-е, и вся мифология московских переулков связана именно с ними. Если они и работают геологами, то предпочитают возвращаться из экспедиции в свой переулок, а не на Профсоюзную.
Идеал власти ближе к колонизатору, это «комсомолец- целинник». Он сильно отличается от последующих комсомольцев, ему не свойственна никакая раздвоенность, в нем нет двоемыслия, он слепо верит в коммунизм. Коммунистическая идеология переживает кастрированный ренессанс. Его идеальная среда та же, что и у колонизатора, но с элементами государственного величия – как на Новом Арбате с его отсылками к набережной Гаваны (Фидель Кастро – главная фигура этого ренессанса). И, разумеется, на целине он совершенно не предается сложным экзистенциальным переживаниям, которые случаются в тайге у геологов. Он там всегда в коллективе, всегда в работе или коллективном празднике.
Парень из нашего двора, комсомолец-целинник и геолог – эта троица не столь шизофренична, как герои следующих поколений, они могут договориться и, скажем, вместе отправиться покорять новые земли. Но в городе им вместе трудно, идеалы одних полностью разрушают среду других.
Послевоенное время слишком диффузно для того, чтобы сформировать столь же определенные «маски». Здесь слишком много разнонаправленных экспериментов, и, как мне кажется, если мы можем говорить о каких-то типах, то они являются продолжением трендов 1930-х годов.
Откуда взялся этот самый геолог, комсомолец-целинник? Это не идеал власти 1930-х. Ее идеал предельно ясен и очерчен, он глядит на нас со всех плакатов, из любого кино, со страниц главных советских романов. Это «новый человек». Этот новый человек синтезирует героические мечтания русской культуры от Чернышевского до авангарда, в нем сильны ницщеанские и горьковские «богостроительные» ноты, но при этом он сведен до уровня практического применения и в этом смысле довольно прост. Он человек коллектива, массы, и это его главное отличие от предшествующих поколений индивидуалистов. Его принцип – «все как один». Он не ведает душевных сомнений и не задает вопросов, поскольку все вопросы решены или будут решены наукой – человечество неминуемо придет к коммунизму, осталось лишь победить врагов. Целью его жизни является построение коммунизма, ради этой цели он готов пожертвовать собой. Идеальная среда для него – Москва генплана 1935 года, Москва широких магистралей для победных шествий, идущих к Дворцу Советов.
Но если посмотреть на общекультурный идеал, то он не то чтобы сильно отличается от идеала власти, а как бы переводит его в другое географическое пространство. Все словно собираются в экспедицию. 1930-е годы – это необыкновенный расцвет популярности совершенно жюль- верновской литературы, вроде «Земли Санникова» Владимира Обручева, «Тайны двух океанов» Григория Адамова. Есть и более высокие образцы той же темы – «Два капитана» Вениамина Каверина, поэзия Владимира Луговского, Николая Тихонова. Народ спасает челюскинцев и папанинцев, летчик – настолько же культовая фигура, насколько позднее геолог. Это романтика колонизаторов, и для них городское пространство в известной мере столь же безразлично, сколь для геологов, которые стоят за профессиональным идеалом горожанина 1960-х.
Трудно понять, как этим двум образам может соответствовать программа сталинского неоклассицизма 1930-х годов. Если мы говорим именно о профессиональных идеалах, то это время, когда русская классическая традиция, так сказать, поступает в аспирантуру. Переводятся и издаются на русском классические архитектурные трактаты от Витрувия до Палладио и Виньолы, создается академическая школа изучения классики. Можно как угодно относиться к академическим установкам 1930-х, но нельзя не признать, что по сравнению с Александром Габричевским, Николаем Бруновым, Андреем Буниным архитектурные эссе Александра Бенуа, Георгия Лукомского и Павла Муратова – это очаровательный эссеистический дилетантизм рядом с научной традицией. Сталинскую архитектуру 1930-х принято иногда сравнивать с европейским ар-деко, для этого есть основания, но принципиальное отличие от ар-деко заключается именно в этом невероятном в ХХ веке уровне изучения и владения классической традицией – такая ученая классика более свойственна программе Готфрида Земпера. И эта линия, связанная прежде всего с именем Ивана Жолтовского, существенно влияла на опыты других, более авангардных мастеров – от Фомина до братьев Голосовых.
Чтобы воспринимать эту среду, нужны существенные знания, вкус к старой европейской культуре, знакомство с архитектурными трактатами, с искусствоведческой традицией. При этом вряд ли было бы осмысленным предполагать, что Жолтовский, Щусев, Фомин, Кузнецов проектировали и строили, рассчитывая на несуществующую дореволюционную публику с уровнем образования не ниже классической гимназии. Очевидно, имелся в виду какой-то слой советских людей, но кто они, на первый взгляд даже не понятно.
В воспоминаниях Григория Исаевича Григорова, философа и мыслителя, проведшего десятки лет в сталинских лагерях, есть замечательно полные разделы об Институте красной профессуры, ИКП, где он учился с 1922 по 1927 год. Это особое учебное заведение, примерно половина выпускников которого стала сталинской номенклатурой (не начальниками, а советниками), а половина отправилась в лагеря как «уклонисты». Атмосфера там по-своему поражает – это яростное поглощение академической традиции XIX века вчерашними большевистскими активистами. Чтение Маркса в оригинале общепринято, что и естественно, поскольку он большей частью не переведен, как обязательно и знание немецкой классической философии вообще. Мне кажется, именно «красная профессура» – по ленинскому определению, «пролетарий, овладевший всеми знаниями человечества» – и является тем идеальным горожанином, которого имела в виду школа Жолтовского.
«Новый человек», «колонизатор» и «красный профессор» – вот троица горожан 1930-х годов. Обращение к более раннему этапу, к 1920-м, на мой взгляд, непродуктивно по тем же причинам, что и к послевоенному времени – все слишком взбаламучено, и четкие культурные маски еще не выработаны. Понятно, что «новый человек» власти появляется из «нового человека» культуры 1920-х, идеала человека русского футуризма и авангарда. «Красный профессор» – наоборот, некий идеал большевиков старшего поколения, создателей школы Капри и Лонжюмо, где будущих боевиков революции учили как тактике организации уличных беспорядков, так и «Манифесту коммунистической партии» и «Капиталу». Однако в 1920-е это лишь пара из множества конкурирующих моделей, и ее конкурентные преимущества пока не ясны. Попробуем сделать некоторые выводы на основе того материала, который мы проанализировали.
Возникают сомнения в возможности определить некий образ горожанина 2010-х, 1980-х, 1960-х, 1930-х и т.д. годов – любого синхронического среза. Мне кажется, это не вполне удается сделать ни методами социологии, ни антропологии, ни культурологии, потому что образа горожанина своего времени, быть может, и не существует. «Образ горожанина» скорее представляет собой некий рынок, на котором продаются маски социальной идентификации, и эти маски в большей степени не согласуются между собой, чем представляют разные грани одного явления.
Это рынок, на котором предложение превалирует над спросом. Образы горожанина 2010-х годов – ты можешь быть хипстером, новым комсоргом или человеком сети – не нужны, я думаю, никому из 14 миллионов москвичей, которые сегодня составляют население города, – ни в целом, ни в отдельных социальных группах. Они нужны их производителям.
Фото © Институт «Стрелка»
В двух случаях этих производителей определить легко – это профессионалы и власть. Самым сложным, ускользающим от определения, является третий производитель. Мы обозначали его продукт как «общераспространенный культурный тип», что более или менее нормально для культурологической парадигмы, но, разумеется, является совершенно недопустимым импрессионизмом с точки зрения и социологии, и экономики культуры.
Однако производитель этого типа социальной маски может быть описан косвенным образом. Человек испытывает потребность в социуме, социальность как таковая (включенность в повестку дня, знание общего языка социума) и есть один из главных продуктов на рынках культуры. Это вызывает к жизни институты потребления социальности. Литература, театр, кино, пресса, пропаганда, городская среда – все это так или иначе является такими институтами, более того, они активно конкурируют между собой за потребителя. Тот институт, который предъявляет наименьшие барьеры входа на рынок социального обмена, оказывается наиболее успешным. Скажем, в сегодняшней ситуации это сетевое общение. Этот институт и является производителем «общераспространенного культурного типа».
Исходя из сказанного, можно предположить, что несоответствие между продуктом, который конструируют профессионалы, и потребностями горожан – это скорее правило, чем исключение. Образы «хипстеров», «арбатских ребят», «геологов», «колонизаторов», «красных профессоров» никому не соответствовали и являлись целиком профессиональным конструктом, мифом. При этом я позволю себе усомниться в том, что это является проектом «будущего горожанина», хотя думать так приятно для профессионального достоинства. Скорее, это не имеет никакого отношения к будущему.
Генезис всех профессиональных образов достаточно очевиден. Профессиональным идеалом становится тот образ горожанина, который являлся общераспространенным культурным типом в предшествующую эпоху. Миф Арбата архитекторов 1980-х вырос из «старых арбатских ребят» шестидесятников, «геологи» 1960-х оказались реинкарнацией «колонизаторов» 1930-х, «красные профессора» 1930-х выросли из большевистской утопии пролетария, овладевшего мировой культурой. Легко догадаться, что хипстеры современной собянинской модернизации Москвы – это реализация утопии 1990-х, России, отказавшейся от советской власти и мгновенно превратившейся вследствие этого в нормальную европейскую страну, вроде Португалии, догнать которую в начале 2000-х обещал нам президент Путин. Профессиональный идеал в этих случаях устремлен вовсе не в будущее, а в прошлое и апеллирует к настроениям горожан, которых уже нет.
Правда, ко всем этим общераспространенным культурным типам профессионалы подстраивают пластические моды, которые имеют к ним косвенное отношение и рождаются из других источников, из архитектурных трендов европейских стран. Так получается, что красные профессора имеют в качестве пластического предъявления архитектуру неоренессанса и неоклассицизма, геологи 1960-х – архитектуру Ле Корбюзье, «старые арбатские ребята» становятся носителями «нового урбанизма» в духе Леона Крие, а хипстеры – проповедниками барселонского благоустройства. Для каждой из этих групп данное отождествление, осуществленное профессионалами, оказывается неожиданностью, и часто болезненной неожиданностью: красные профессора любят конструктивизм, а не неоклассицизм, Окуджава не принимает реконструкции Арбата, вдохновленной его песнями, а хипстеры проклинают «Стрелку» в фейсбуке.
Что же касается власти, то, мне кажется, ей более или менее все равно, каким будет идеальный горожанин. Ей важно ухватить того, который есть «в реальности» и подстроить его под свою повестку дня. Но тот, который «в реальности», не поддается ухватыванию. И в ряде случаев она покупает его субститут в виде профессионального образа горожанина и порождает с его помощью гибриды. В сегодняшней ситуации, например, она покупает образ хипстера, чтобы замаскировать комсорга, который должен стать ролевой моделью для горожанина, убежавшего от реальности в сеть.
Исходя из сказанного, можно даже предсказать, какие два типа горожанина ждут нас в ближайшем будущем. Профессиональным идеалом станет человек сети на улице, его дизайн-кодом – apple-среда, город виртуальных яблонь. Возможно, на ветви придется подсаживать покемонов в виде двуглавых орлов.