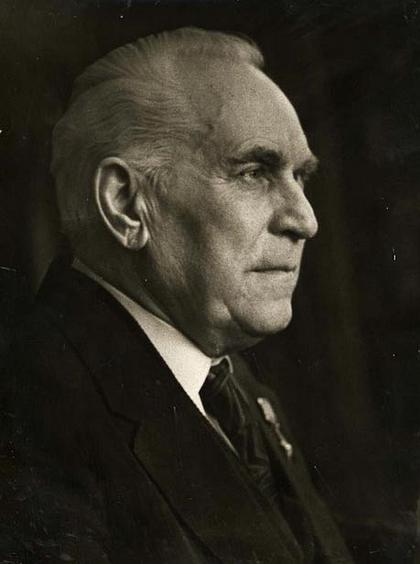Первая часть этой работы «Дмитрий Чечулин. 30-е годы» опубликована в сборнике «Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления.». Сост. и отв. ред. Ю.Л.Косенкова. - М.: КомКнига, 2010
3. Чечулин и Жолтовский
Видимо, к моменту превращения Чечулина в одного из высших архитектурных начальников Москвы относится и его конфликт с Жолтовским.
В мемуарах Чечулин пишет: «С поста руководителя бывшей щусевской мастерской меня очень скоро в порядке выдвижения молодых кадров назначили начальником управления проектирования. В моем подчинении оказались Жолтовский, Гельфрейх, Фомин, Голосов, Мельников, Фридман и др.
Представьте мое положение. Руководить такими известными, крупными мастерами с мировым именем, архитекторами, у которых выработалась индивидуальная система работы, сложились коллективы, уже выросли ученики, было делом крайне трудным, почти невозможным. Кто я такой для них? Мальчишка. Как, скажем, можно руководить Жолтовским? В мастерской Моссовета, которой номинально руководил, он почти не бывал. Работал в своей домашней мастерской. Принимал посетителей только после двенадцати часов ночи. Но предварительно его дочь или племянница записывали, кто хочет побеседовать с Иваном Владиславовичем и на какую тему. Предпочитал говорить о своем кумире итальянце А. Палладио, архитекторе эпохи Возрождения. Причем, встретив единомышленника, готов был разговаривать до утра. А все остальные в его приемной сидели и ждали. Вот какой самобытный был человек. И это при том, что зодчий выдающийся: мастер, глава школы, авторитет, большой художник». [1]
Здесь сквозь дежурное почтение прорывается очевидная неприязнь. Видимо Чечулину пришлось посидеть в приемной Жолтовского. И не исключено, что уже в ранге его начальника. Чечулину, начальнику сталинского типа, иметь подчиненного, так безобразно нарушающего правила и дисциплину было явно неприятно. А Жолтовский, видимо, не мог воспринимать щусевского выкормыша иначе, как наглого и бездарного выскочку.
С самого начала войны Чечулин стал начальником Архитектурно-планировочного управления, объединившего все объемные и планировочные мастерские Моссовета. Ко времени руководства Чечулиным московской архитектурой относится работа Жолтовского над перестройкой здания Моссовета (бывший дом московского генерал-губернатора, арх. Матвея Казакова, 1782)
В 1939-44 годах Жолтовский сделал 18 (!) вариантов проекта. А перестроил здание Моссовета в 1944 г. Чечулин (соавторы – Посохин с Мдоянцем). За этим событием стоит, видимо, грандиознейший конфликт. Вероятно, проекты Жолтовского не устраивали заказчика, каковым в то время мог быть секретарь Московского горкома Александр Щербаков (либо председатель исполкома Моссовета Пронин). Хотя вполне вероятно, что утверждение проектов такого уровня входило в компетенцию Сталина. Сохранилась устная легенда, что некий заказчик, взяв карандаш, стал сам рисовать на проекте дома колонны. Тогда Жолтовский отказался от работы, заявив: «Я старый человек и не хочу, чтобы обо мне говорили – это тот, который изуродовал дом московского генерал-губернатора». Насколько история соответствует действительности неизвестно, но психологически она, видимо, верна.
Возможно, кто-то из окружения Посохина еще сможет вспомнить детали этих событий.
Чечулин перестраивает здание Моссовета вместо Жолтовского, а над тем сгущаются тучи.
Сразу после войны в Московском Архитектурном институте происходит странное – забавное и одновременно жутковатое – событие. В октябре 1945 г. студенты 4-5 курсов получают курсовое задание - спроектировать «Загородный дом Маршала Советского Союза». Тему предложил завкафедрой Жолтовский. Она была утверждена всем институтским начальством. Ясно, что тема - отражение военно-патриотического настроя в стране и культа маршала Жукова. В начале ноября проекты были сданы. А второго ноября появляется приказ председателя Всесоюзного комитета по делам Высшей школы С. Кафтанова, где тема проекта названа «грубой ошибкой», институтскому начальству «указано» на нее, а студентам велено выдать новое задание, отменив старое. Одновременно Кафтанов докладывает секретарю ЦК Г. Маленкову о «грубом политическом извращении, имевшем место в Московском Архитектурном институте». [2]
Из опубликованных документов совершенно не ясно, в чем именно заключалась «грубая политическая ошибка» руководства института. Очевидно только, что для многоопытных архитектурных чиновников такой поворот дела был полной неожиданностью. Непонятно также, кто был инициатором скандала. Можно предположить, что сам Маленков. Вероятно именно в октябре 1945 г. Сталин начал готовить будущую опалу Жукова (тот был понижен в должности с обвинением в «нескромности» только в сентябре 1946 г.). Первыми жертвами тактических планов Сталина оказались ничего не подозревавшие преподаватели МАИ и студенческие проекты.
Возможно также, что этот инцидент был отражением начавшихся лично у Ивана Жолтовского серьезных неприятностей. Или, что скорее, одной из их причин.
Совпадение – как раз в 1945 г. Чечулин становится главным архитектором Москвы.
В феврале 1948 г. постановлением ЦК ВКП(б) от 10 февраля «Об опере «Великая дружба» Вано Мурадели» начинается кампания по борьбе с формализмом во всех областях культурной жизни, в том числе и в архитектуре.
Направление удара в архитектурной области было обозначено анонимной статьей в газете «Советское искусство» «Пережитки формализма в архитектуре» (6 марта 1948 г). В марте 1948 года с целью выявления формалистов в своей среде собирается «актив зодчих столицы». Основной докладчик, председатель комитета по делам архитектуры при Совмине СССР Г.Симонов называет имена – Ладовский, Мельников, Гинзбург (уже умерший), Иофан, Бархин, Буров, Алабян. Однако больше всего места уделяется критике Ивана Жолтовского и его учеников, занимавших в это время важные места в профессиональной иерархии – «Школа Жолтовского... стоит на неверных творческих позициях в вопросе освоения нашей архитектурой классического наследия... Последователи Жолтовского питаются псевдонаучной теорией о всемогуществе пресловутого «золотого сечения», «теорией о существовании ... неких «вечных» канонов красоты и гармонии... Этой идеалистической шелухой засоряют головы нашей архитектурной молодежи....» («На собрании актива московских архитекторов», «Архитектура и Строительство», 1948, №4,с14-15).
Никакой художественной подоплеки в этом погроме нет. Происходит обычная для Сталина ротация кадров. Странность в том, что в качестве главной жертвы выбран патриарх советской архитектуры Иван Жолтовский, никакой не чиновник, а преподаватель и воспитатель всех сталинских классицистов. Ученики Жолтовского пострадали в относительно мало, а над его головой тучи сгустились всерьез.
В феврале 1949 года в Центральном доме архитектора в Москве проходило обсуждение новых жилых домов, построенных в Москве. По существу, проводилась акция, направленная против Жолтовского, так как один из трех домов – на Большой Калужской улице – был выстроен им. Это большое жилое здание не особенно выделялось из обшей массы советской архитектурной продукции, - разве что более тонкой чем обычно разработкой пропорций. Но перед участниками обсуждения была поставлена ясная цель: «Общий протест участников дискуссии вызвала новая работа И Жолтовского... работа эта находится в непримиримом противоречии с практикой подавляющего большинства советских архитекторов, стоящих на позициях социалистического реализма... Существо архитектуры, созданной И. Жолтовским, вскрыли Н. Селивановский, Н. Соколов, И. Браиловский и др. Они указывали, что Жолтовский создал ложный образ советского жилого дома». [3]
На обсуждение были приглашены жильцы дома, которые «...предъявили автору ряд серьезных и справедливых обвинений... жильцы дома указывали, что неудачно расположены комнаты, в которых очень трудно расставить мебель, неудобно запроектированы окна, двери... Семья из четырех человек... не сможет с удобством жить в такой квартире. Столовая вынесена на кухню и составляет с ней одно целое»[4]. Кто именно выступал от имени жильцов в статье не упоминается, что жалко. Дом на Калужской площади проходил по документам как дом СНК СССР, проектировался в тот момент, когда Жолтовский был главным архитектором Военстроя и был заселен скорее всего, либо высокопоставленными военными, либо сотрудниками НКВД.
К весне 1949 г. охота на ведьм постепенно стихает по всей стране и во всех областях культуры. В марте 1950 года группа советских архитекторов получает сталинские премии за 1949 год. Среди лауреатов ученики Жолтовского Г. Захаров и 3. Чернышева (за станцию метро «Курская»), Л.Поляков (за станцию метро «Калужская») и сам Жолтовский – за жилой дом на Большой Калужской улице. За тот самый дом, который еще год назад дружно поносили в прессе. Это косвенное указание на то, что ранее повод для травли Жолтовского не был выбран лично Сталиным.
Сталин очень любил такие шутки. Те люди, которые раньше по приказу свыше травили Жолтовского и его школу, теперь оказались в идиотском положении, а их бывшие жертвы торжествовали победу. Впрочем, юмор Сталина можно усмотреть и в том, что Захаров и Чернышева получили премию первой степени, а патриарх Жолтовский - только второй.
Чечулин не участвует открыто в травле Жолтовского. Но стоит помнить, что в самый ее разгар, в 1948-49 гг., положение Чечулина прочно как никогда – он главный архитектор Москвы и фактически руководит проектированием всех московских высоток, идея строительства которых официально приписывается Сталину. Руководство такого рода компаниями входит в его компетенцию.
Еще одно совпадение. В январе 1950 г., Чечулина на посту главного архитектора Москвы меняет Александр Власов, человек гораздо более талантливый и культурный, чем Чечулин. До того Власов был главным архитектором Киева и приехал в Москву вместе с Хрущевым, переведенным с Украины в декабре 1049 г. на должность первого секретаря Московского горкома партии. А в марте 1950 г. вручением сталинской премии заканчивается опала Жолтовского. Известно, что сталинские премии распределял Сталин лично. Но списки кандидатов предоставляли соответствующие чиновники от культуры. Очень возможно, что роль спасителя Жолтовского сыграл Власов.
4. Чечулин и высотки
После войны Чечулин много проектирует и строит, но никак не более удачно, чем до войны. Гостиница «Пекин» (1951 г), павильон Москвы на ВДНХ (1954), высотные здания на Котельнической набережной (1952) и проект высотки в Зарядье – это все перепевы одного и того же мотива примитивно декорированной ступенчатой башни. С архитектурной точки зрения эта деятельность Чечулина не представляет ни малейшего самостоятельного интереса. Интерес в другом – очень похоже, что Чечулин опять сыграл важную роль в одном из самых таинственных и неизученных событий сталинской архитектурной истории – в проектировании и строительстве высотных зданий Москвы.Строительство высоток напрямую связано с умиранием идеи Дворца советов. Утвержденный и начатый строительством проект Дворца советов уже во время войны явно по приказу Сталина неоднократно переделывался Иофаном в сторону уменьшения размеров. Это говорит о сомнениях Сталина в целесообразности строительства. Официально строительство Дворца советов отменяется только в 1961 г, но отказ Сталина от этой идеи несомненно датируется если не самым началом войны, то уже точно 1945 г.
Постановление Совета Министров СССР «О строительстве в Москве многоэтажных зданий» вышло в январе 1947 г. А в апреле 1949 г. все авторы получили сталинские премии за 1948 г., фактически за эскизные проекты. Чечулин – автор двух зданий, жилого дома на Котельнической набережной и административного здания в Зарядье, самого близкого к Кремлю и самого высокого. С самого начала во всех публикациях подчеркивалось, что идея строительства высоток принадлежит Сталину. Это единственный такой случай в истории советской архитектуры. Сталин больше никогда не засвечивался в таком качестве, хотя его прямое участие в руководстве советской архитектурой несомненно.В мемуарах Чечулин намекает на то, что идею строительства высоток подал он лично, и что он сам занимался всем, что связано с разработкой идеи, поисков мест, организацией проектирование и проработкой проектов:
«Видя, что силуэт старой Москвы спасти невозможно, я много размышлял над тем, как сохранить исторически сложившийся характер нашей столицы. Мысль о высотных зданиях пришла во время работы над конкурсным проектом дома на Котельнической набережной. Некоторые коллеги, заботясь о том, как бы не перекрыть крупным зданием красивую композицию древних соборов на Швивой горке, предлагали построить здесь малоэтажное здание. Я же видел возможность масштабного сопоставления.
Генеральным планом 1935 года в исключительных случаях предусматривалась возможность строить дома выше 9—12 этажей. Воспользовавшись этим, я вместе с архитектором А. К. Ростковским подготовил проект здания, центральная часть которого имела двадцать пять этажей. Исполком Моссовета утвердил проект. Больше того, мысль о необходимости поднять силуэт Москвы понравилась, и мне было рекомендовано увеличить число этажей в центральной части, придать ей такое архитектурное выражение, чтобы здание просматривалось со всех концов города.
Вскоре после этого московские градостроители получили правительственное задание создать четкий силуэт столицы. За короткое время были ориентировочно намечены точки, в которых должны появиться высотные здания.
Это было очень ответственное задание. Требовалось четкое планировочное решение, продуманная увязка в единое целое комплексов, ансамблей города. Высотные здания должны были играть роль градообразующих элементов, архитектурных доминант...
Проектированием каждого отдельного высотного здания занимались специально созданные авторские группы. В течение двух лет все проекты предстояло утвердить и начать строительство. Художественный образ каждого здания должен был отличаться своеобразием и в то же время быть глубоко связанным с планировочной структурой города, его сложившейся объемно-пространственной композицией. Высотные дома своей образной сутью должны были придать новое звучание архитектурному облику столицы. Предстояло на основе этого нового качества продолжать дальше строить Москву...
Все, что связано с их появлением, — от зарождения идеи, составления первых предварительных наметок, подбора авторского состава до детальных проработок проектов, их утверждения и полного окончания строительства –все это пришлось пережить. Быть может, поэтому товарищи, коллеги окрестили меня «высотником».
Из текста можно понять следующее. Первоначальная идея высотных зданий возникла до войны, во время проектирования жилого дома на Котельнической набережной. Чечулин предложил сделать высотную композицию и некое неназваное начальство идею не только одобрило, но и предложило сделать здание еще выше, превратить в доминанту, видимую с разных концов города.
Впрочем, по тексту не ясно когда проходил конкурс на это здание, до войны или сразу после. Материалы конкурса на жилой дом на Котельнической набережной неизвестны. По проекту Чечулина в 1940 г. построен боковой корпус этого здания, но весь проект с башней не опубликован. Возможно, все-таки, идея родилась до войны. Сталин все тридцатые годы играл с мыслью дополнить башню Дворца советов какой-нибудь другой или другими. Отсюда, например, возникла идея высотного здания Наркомтяжпрома, бурно развивавшаяся в середине тридцатых.
Мысль поставить в дополнение к Дворцу советов одну высотку, естественным образом тянула за собой продолжение – систему высотных зданий, окружающих Кремль. Если этот замысел возник до войны, тогда объясним и приказ о переработке Дворца советов. Его немасштабность особенно могла бросаться в глаза рядом с группой небоскребов значительно меньших размеров. Возможно, во время войны Сталин еще собирался совместить Дворец с другими высотками и отбросил эту идею только после войны. Иначе не было бы смысла нагружать группу Иофана в военное время таким заданием.
Фразу Чечулина – «Вскоре после этого московские градостроители получили правительственное задание создать четкий силуэт столицы. За короткое время были ориентировочно намечены точки, в которых должны появиться высотные здания» – можно отнести и довоенному, и к послевоенному времени. В любом случае, описанная процедура проходила настолько тайно, что не оставила никаких явных следов в известной нам истории советской архитектуры.
Проектирование высотных зданий проходило очень необычным образом. Как правило, строительству ключевых сталинских зданий предшествовали долгие и мучительные многоступенчатые конкурсы. А тут в кратчайшие сроки, всего за два года с января 1947 по весну 1949 без всяких публичных конкурсов возникают проекты восьми громадных зданий, поразительно похожих между собой.
28 февраля 1947 г., в газете «Советское искусство» опубликована беседа с Чечулиным «Новые многоэтажные здания столицы». Чечулин рассказывает:
«В Москве должны быть построены: один дом в 32 этажа. 2 дома в 26 этажей и несколько 16-этажных домов. Проектирование и строительство этих -домов возложено на Управление строительства Дворца Советов при Совете Министров СССР и на ряд крупнейших министерств.
Наиболее крупное здание в 32 этажа будет выстроено на Ленинских горах в центре излучины Москва-реки. В здании будут находиться гостиница и жилые квартиры. Два здания в 26 этажей разместятся: одно — в Зарядье (на месте предполагавшегося к строительству Дома Совнаркома). а другое — на Ленинградском шоссе, в районе стадиона «Динамо». В Зарядье проектируется административное здание, а на Ленинградском шоссе — здание смешанного гостинично-жилищного типа.
Из остальных зданий (в 16 этажей) одно разместится на Котельнической набережной, на участке около Устинского моста. другие — на крупнейших площадях Москвы: Каланчевской, у Красных ворот, на площади Восстания и на Смоленской площади. Это будут административные здания (на Каланчевской и Смоленской площадях) и жилые дома (у Красных ворот и на площади Восстания)»
Бросается в глаза, что к моменту официального объявления о строительстве уже решены все ключевые вопросы проектирования. Подобраны места расположения зданий, определены этажность и назначение каждого дома. В статье начальника Управления строительством Дворца советов А. Прокофьева в той же газете от 20 июня 1947 г. говорится, что проектирование здания на Ленинских горах поручено Иофану, а здания в Зарядье – Чечулину. Заодно указывается и количество рабочих комнат в здании на Ленинских горах – 1575.
Все это означает, что до официального начала проектирования уже существовали некие подробные эскизы градостроительных решений каждого из участков и эскизы самих зданий. Или один, утвержденный Сталиным эскизный проект, по образцу которого должны были делаться остальные высотки. Возможно, эти исходным эскизом служил неопубликованный первоначальный проект дома Котельнической набережной и/или дома в Зарядье Чечулина. Уже назначены авторы трех зданий – Иофан и Чечулин – и видимо, намечены авторы остальных. Нет оснований не верить тому, что всей предварительной и глубоко засекреченной работой руководил Чечулин. И проходила она скорее всего в 1945-46 гг., то есть сразу после окончания войны.
1945 г. – это вообще резкий взлет карьеры Чечулина. В этом году он становится главным архитектором Москвы, членом-корреспондентом Академии архитектуры. В 1946 г. становится депутатом Верховного совета, вторично избирается депутатом Моссовета и входит в его исполком.
Видимо, решающую роль играл Чечулин и в подборе авторов проектов. Это было тем более важно, что скорее всего речь изначально шла о кандидатах на Сталинскую премию. А контроль за проектированием всех зданий со стороны Чечулина сводился к тому, чтобы сделать их максимально похожими. Чечулин явно обладал полномочиями руководить работой всех прочих формальных авторов высоток.
Вдова одного из них, Алексея Душкина, вспоминает в мемуарах, что в Министерстве путей сообщения, которому было поручено строить зданий у Красных ворот был проведен внутренний конкурс, который выиграл Душкин: «В тот же период... (в 1946 году), правительство приняло решение о возведении в Москве восьми высотных домов для обозначения силуэта и украшения города. Проектирование одного из них - здания МПС на площади у Красных ворот - было поручено Алексею и ещё двум архитекторам, Ивану Георгиевичу Таранову и Георгию Ипполитовичу Волошинову. Конкурс был закрытый. Алексей вместе со своей группой с энтузиазмом взялся за работу. Было сделано несколько вариантов, последний из которых был одобрен и утверждён к дальнейшей разработке Комитетом по делам архитектуры СССР и руководством МПС. Со слов Алексея я знаю, что председатель Комитета архитектор Г.А. Симонов после совещания сказал: «Когда Душкин показал свой проект, было впечатление, что он вытащил козырной туз».[5]
Конкурсный проект Душкина, опубликованный тут же[6] производит очень странное, нелепое впечатление. Не зная исходной программы и критериев, какими руководствовались как автор, так и члены Комитета по строительству (а точнее, анонимный заказчик), невозможно понять в чем его «козырность».
В том же 1947 г., после того как проект утвердили, Душкину по инициативе Чечулина навязали соавтора Мезенцева, по мнению Душкиной крайне неприятного и завистливого человека.
Вот как описана эта ситуация у Чечулина: «Не без трудностей рождалось высотное здание Министерства путей сообщения СССР у станции метро «Лермонтовская». Его проектировал Алексей Николаевич Душкин. Мы обговорили с ним основные характеристики сооружения, предлагаемое образное решение. Душкин взялся за работу горячо. Однако проектные материалы, которые он представил, свидетельствовали об авторской неудаче. То, что было таким выигрышным, новым в его знаменитой работе на станции метро «Маяковская», применительно к огромному архитектурному объему высотного здания МПС оказалось неприемлемым. Поэтому я предложил Душкину взять в соавторы Бориса Сергеевича Мезенцева, человека большого дарования».
В этом отрывке масса интересного. Во-первых, Душкин от природы был гораздо более способный архитектор, чем Чечулин, к тому же дважды (на тот момент) лауреат Сталинской премии. Статус главного архитектора города сам по себе не мог дать Чечулину такой власти над коллегами такого ранга, как Душкин. Слова Чечулина о том, что проект Душкина был «неприемлемым» звучит анекдотически, если не предположить, что речь идет не вообще о «хорошо-плохо», а о конкретных требованиях, исполнения которых у Чечулина были полномочия добиваться. Фраза: «мы обговорили с ним основные характеристики сооружения, предлагаемое образное решение» означает скорее всего, что и характеристики, и образное решение были заданы Душкину Чечулиным и с ним должны были согласовываться. Вопрос о «приемлемости» проекта Душкина Чкчулин тоже решал сам, так же как и вопрос о составе проектной группы.
О проведении внутреннего конкурса упоминает и Михаил Посохин, автор (вместе с Ашотом Мдоянцем) выстоки на Площади восстания.[7]
В такой ситуации, надо полагать, находились и другие авторы проектов высоток.
В книге Л.Варзара и Ю.Яралова «М.А. Минкус» (М. 1982), описано как мучительно шло у Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса проектирование здания на Смоленской площади. Они делали бесчисленные варианты для представления начальству, но сами ничего не могли выбрать.
Чечулин в мемуарах приоткрывает завесу и над этим процессом:
«Говоря о плодотворности идеи строительства высотных зданий, хочу еще раз подчеркнуть их градообразующий характер. Проиллюстрирую это на примере высотного здания на Смоленской площади... До его возведения площади по существу не было. А. В. Щусев, консультировавший выбор мест для строительства высотных зданий, считал, что на Смоленской надо поставить масштабную вертикаль, с тем чтобы зрительно раскрыть, выявить дорогу па Бородинский мост. Сегодня любому ясен этот выразительнейший градостроительный замысел. Но поначалу он встретил сопротивление со стороны В. Г. Гельфрейха, которому было поручено проектирование высотного здания здесь. Я пригласил к себе этого маститого архитектора, одного из авторов нового здания Библиотеки имени В. И. Ленина, и предложил ему связать в единое целое выстроенное И. А. Голосовым в предвоенные годы здание Министерства мясомолочной промышленности и будущее высотное здание МИДа. «Нет, я этого делать не буду, – стал возражать Владимир Георгиевич. – Здесь уже все сделано Голосовым и сделано прекрасно». Тогда я стал рисовать, полагая, что так он скорее меня поймет. Через какое-то время Владимира Георгиевича заинтересовала моя идея. Он тоже стал рисовать. «Пока не нарисуете, не уйдете», — сказал я твердо и оставил его одного в кабинете. Гельфрейх великолепно решил проблемы увязки существующего здания с воображаемым. И если в его совместной с В. А. Щуко работе над новым зданием Библиотеки имени В. И. Ленина видна контрастная несопоставимость с классикой бывшего Румянцевского музея (дома Пашкова), то здесь изящные «швы» заметит только очень сведущий человек».
В этом отрывке тоже масса интересного. Гельфрейх не только на 16 лет старше Чечулина, он знаменитость, мэтр, соавтор Библиотеки Ленина и Дворца советов, ученик и друг академика Щуко еще с дореволюционных времен. Он не ровня Чечулину ни в творческом, ни в культурном, ни – еще недавно – в социальном смысле. Чечулин же обращается с ним как с мальчишкой, учит проектировать, запирает его одного в кабинете до тех пор пока тот не справится с заданием. Значит были у него такие полномочия. И, что еще важнее, было твердое знание того, чего следует добиваться. Здесь речь идет не только о проявлении власти как таковой.
В истории сталинской архитектуры неизвестны случаи, когда кто бы то ни было из архитекторов брал на себя смелость принимать решения в ключевых ситуациях. Такой компетенцией обладала только высшая политическая власть, то есть Сталин. Все бесчисленные конкурсы сталинской эпохи демонстрируют неуверенность и растерянность самих архитекторов. Решения всегда принимаются (или не принимаются вовсе) некоей неназываемой высшей силой. Анонимным жюри, в которое архитекторы не входят. Или, как в случае со Дворцом советов, входят в таком количестве, что сомневаться в чисто декоративном характере такого жюри не приходится.
Чечулин же действует крайне уверенно, так как будто он хорошо знает, какой требуется результат. Эту необычную для советских архитектурных нравов ситуацию можно объяснить только одним: Чечулин действительно пользовался огромными полномочиями, представлял верховную власть и хорошо знал, чего именно следует добиваться. А для этого он должен был иметь заранее утвержденные образцы.
В середине 1948 г. происходит свержение Иофана. Его отстраняют от работы, а проектную группу передают Рудневу, который продолжает проектирование используя эскизы и наработки Иофана. Существует легенда о том, что Иофан хотел поставить здание подальше от склона и не шел на уступки. Это очень маловероятно, от такого рода фронды все советские архитекторы были отучены очень давно.
Иофан, автор Дворца советов и «главный специалист по высотным зданиям» в 1947 г. рассчитывал стать автором самого значительного высотного здания Москвы. Невозможно сказать какую роль сыграл Чечулин в его падении. Но то, что он в качестве куратора проектирования высотных зданий фактически занял то место, которое десять лет назад занимал при Сталине Иофан, очевидно.
И еще одно совпадение. В 1949 г. в ходе кампании против «космополитов» происходит свержение Каро Алабяна, секретаря Союза архитекторов и вице-президента Академии архитектуры. Он теряет свои посты и становится рядовым руководителем мастерской Горпроекта. Есть легенда о том, что Алабян не попал в авторы высоток из-за неудачной фразы, сказанной на совещании у Берии, который курировал строительство высотных домов.
Неизвестно какую роль сыграл Чечулин в судьбах Иофана и Алабяна, но его собственное возвышение и их падения были несомненно связаны с одним и тем же – строительством высотных домов. И еще: оба они были давними и гораздо более удачливыми конкурентами Чечулина по конкурсу на Дворец Советов. Как впрочем и третировавшиеся Чечулиным Душкин и Гельфрейх.
5. Закат карьеры
В январе 1950 г. Чечулина на посту главного архитектора Москвы сменяет приехавший из Киева вместе с Хрущевым Александр Власов. Звезда Чечулина начинает закатываться. Он превращается в рядового руководителя мастерской, одного из многих. По непонятной причине, возможно, что еще при жизни Сталина начинает буксовать проект высотки в Зарядье. В книге Душкиной сказано, что в январе 1950 г. Душкин пишет рецензию на этот проект, причем рецензию отрицательную. Это очень странно. Сама по себе рецензия автора проекта одной из высоток на проект другой высотки (причем оба проекта уже принесли своим авторам совсем недавно сталинские премии), спонтанно появиться не могла.Видимо, рецензия инициирована Власовым с ведома Сталина. Проект в Зарядье действительно самый плохой из всех высоток и самый опасный для старой Москвы из-за близости к Кремлю, но раньше разговоров об этом не было. Впочем и про содержание рецензии не опубликованно никаких данных. Задержку со строительством можно было бы объяснить элементарной нехваткой ресурсов. Строительство МГУ и дома в Зарядье вело Управление строительством Дворца советов, подчиненное с 1948 г. генерал-майору А.Н. Комаровскому, по совместительству начальнику Главного управления лагерей промышленного строительства МВД (Главпромстроя). Все ресурсы были брошены на скорейшее завершение МГУ. Для дома в Зарядье были готовы фундаменты, когда стройка забуксовала.
Журавлев пишет: «Прекращение строительства в Зарядье было для Чечулина, так же как и для коллектива архитекторов и строителей, отдавших много творческих сил новостройке, большим ударом. Правда, Д.Н.Чечулин продолжал проектную работу по Зарядью. Но десятки вариантов зданий, разнообразных по назначению, этажности, силуэту, отклонялись. Разрабатывая эти проекты, Чечулин старался максимально использовать уже заложенные фундаменты, чтобы затраченные средства не пропали даром».[8]
Из текста не ясно, когда начался процесс перепроектирования – до смерти Сталина, или после. После смерти Сталина и последовавшей вскоре хрущевской архитектурной реформы вопрос о строительстве высотки даже ставится не мог. Возможно, с Зарядьем просто не успели. Строительство МГУ было закончено тлько осенью 1953 г., а через полгода умер Сталин. Но если переделки начались до смерти Сталина, то ситуация очень напоминает историю с Дворцом советов военного времени. Готовы фундаменты, но проект вдруг начинает переделываться, а новые варианты не утверждаются. За этим совершенно очевидно стоит неизвестная нам в деталях, но легко вычисляемая позиция Сталина начала пятидесятых годов.
Интересно, что Сталинской премией первой степени за 1948 год Чечулина наградили именно за проект высотки в Зарядье. Полагающуюся за высотку на Котельнической набережной премию второй степени получил только соавтор Чечулина Ростковский. Кстати, любопытная деталь. Все лауреаты сталинских премий, полученных за высотки 8 апреля 1949 г. названы в правительственном постановлении «авторами проекта». И только Ростковский обозначен как «соавтор проекта». Видимо, это должно было указывать на пониженный статус Ростковского, по сравнению с Чечулиным.
***
Следующий загадочный период карьеры Чечулина падает на время Хрущевской архитектурной реформы. Осенью 1954 г. Хрущев начинает разгром сталинской архитектуры. Эстетических претензий к ней у Хрущева нет. Построенным под его руководством киевским Крещатиком он даже гордится. Но его раздражает дороговизна строительства, невозможность наладить старыми методами строительство дешевого массового жилья. При Сталине даже задача такая не ставилась. Сталинская архитектура была чисто феодальным явлением, она обслуживала только начальство. Теперь Хрущев начал ее рушить и перестраивать а обслуживание остального населения страны. Главной целью была замена массового строительства трущобных бараков дешевым, но более или менее цивилизованным жильем для всех.Кампания была начата «Всесоюзным совещанием строителей, архитекторов и работников промышленности строительных материалов...» 30 ноября-7 декабря 1954 г. Это было театральное представление, показательная порка сталинских архитекторов. Главный удар приняли на себя Александр Власов и Анатолий Мордвинов, главный архитектор Москвы и президент Академии архитектуры. Они охотно подыгрывали Хрущеву, поскольку относительно бескровный исход представления был явно оговорен заранее. Среди множества выступавших Чечулина нет. Это тем более странно, что в качестве главных архитектурных грехов недавнего прошлого фигурировали именно высотки. В числе грешников называются разные имена, в том числе кается Мордвинов, один из авторов высоток. Но имя Чечулина, главного организатора и исполнителя всей затеи не называется. Нет его и среди выступавших на проходившем в ноябре-декабре 1955 г. Втором всесоюзном съезде архитекторов.
В Постановлении ЦК КПСС «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» от 4 ноября 1955 г. перечислены главные виновники архитектурных безобразий. Чечулин там упоминается дважды: как автор жилого дома на Можайском шоссе, перегруженного декором и как главный архитектор Москвы, который, как и Власов, не вел «должной борьбы с расточительством государственных средств».
Упоминания весьма мягкие. Даже с собственными ставленниками Власовым и Мордвиновым Хрущев обошелся жестче. Но чаще всех и в очень жесткой форме упоминается Алексей Душкин – за «украшательство» и завышение стоимости множества вокзалов, построенных его мастерской.
Парадоксально выглядит список наказанных. Полякова и Борецкого лишают сталинских премий за гостиницу «Ленинград», архитектора Рыбицкого сталинской премии за жилой дом на ул. Чкалова. Душкина снимают с должности главного архитектора Могипротранса, а Полякова отстраняют от руководства мастерской Моспроекта. Главных архитекторов гг. Горький и Харьков снимают с работы, а Мордвинову указывают на «неправильную линию в руководстве работой Академии архитектуры и Архитектурной секции Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства, что в значительной мере способствовало допущению крупных излишеств в архитектуре и строительстве». Последнее «указание» выглядит анекдотом. О том, кто именно распределял сталинские премии было всем хорошо известно.
Основного сталинского специалиста по части «украшательства» Чечулина – главного архитектора Москвы в первые пять послевоенных лет – как будто бы не существует на свете. Впрочем, никак не упоминаются и остальные авторы высоток – Гельфрейх, Руднев, Минкус, Посохин, Мдоянц, Мезенцев, Ростковский... Больше всех из них пострадал почему-то Душкин, парадоксальным образом самый мирный и самый талантливый из всей компании.
***
Очередной подъем карьеры Чечулина приходится на 1960-70 гг. Вероятно, он обязан этим своему подчиненному тридцатых годов, ставшему после смерти Александра Власова в 1960 г. главным архитектором Москвы. Чечулин получает крупные заказы и строит здания ключевые для советской архитектуры 60-70 гг – гостиницу «Россия» и Дом советов РСФСР. Для последнего он использует свой проект здания Аэрофлота середины тридцатых годов.
Примечания:1. Дмитрий Чечулин. «Жизнь и зодчество», М, 1978, с.76-77.
2. («Источник» №3, 1997, с.100-101.).
3. «Обсуждение новых домов Москвы в Центральном доме архитектора». «АиС», 1949, №2, с.19.
4. Там же.
5. Жизнь архитектора Душкина, М. 2004, с. 114.
6. Там же, с. 114.
7. М. Посохин, «Дороги жизни», М., с. 48
8. А. Журавлев, «Дмитрий Чечулин», М, 1985, С. 104
Хмельницкий Д.С. Дмитрий Чечулин в истории советской архитектуры. Часть I. 30-е годы >>>