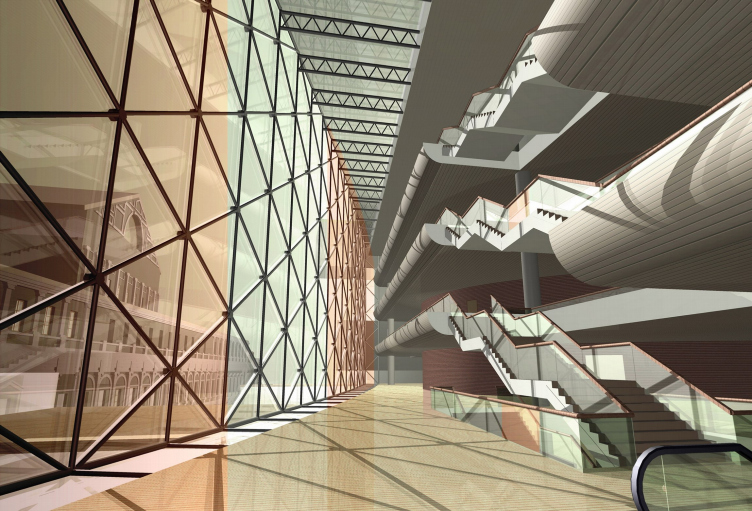В Венеции первый раз представляется московская архитектурная школа, в которой ваше место исключительно…
Вы знаете, я хотел отказаться от участия. Меня уговорил Алексей Добашин, заказчик бюро «Остоженка».
Почему отказаться?
Я не люблю коллективных действий. И потом – вот вы выставляете русскую архитектуру и противопоставляете ее иностранным архитекторам, которые работают в России. Скажите, ну вот бывает, скажем, французская архитектура? По-моему, нет. Бывает просто Жан Нувель, Кристиан Портзампарк, еще кто-то. Мне кажется, национальных архитектур больше не существует, они распались на индивидуальности. Такое деление – на наших и не наших – оно только в России может возникнуть. Оно может быть и есть, это противопоставление актуально и злободневно. Это мой рынок, на который они вторгаются. Но я думаю, что сама оппозиция «мы – не мы» – в этом есть какой-то провинциализм, слабость. Мы должны быть выше этого и не замечать, а вовсе не пытаться себя противопоставить им как национальную школу.
Те двадцать архитекторов, которые составляют сегодня элиту Москвы, объединены явными общими принципами. Скорее проблематично определение индивидуального почерка каждого из них, а черты одной школы бросаются в глаза. И от вас особенно интересно слышать, что школы нет. Ведь вы, по сути, ее глава. И как бы вы определили эту школу?
Средовой модернизм. И у школы есть ряд особенностей. Именно российских. Уважение к историческому контексту, не к памятникам, а к рядовой застройке, соединенное с уважением к современной западной архитектуре. Склонность искать некие правила, которым надо подчиняться. Архитекторы московской средовой школы не любят творческий жест сам по себе, он обязательно должен быть чем-то мотивирован – не только функцией, но духом места, какими-то несуществующими воспоминаниями. Архитектор говорит «я должен так сделать», а не «я хочу так сделать». При этом сравнительно слабая детерминированность прагматическими соображениями. То есть «я должен следовать местному морфотипу» всегда сильнее, чем «я должен получить столько-то квадратных метров». Высокая оценка сдержанности, воспитанности, умения быть незаметным. Вообще, это до определенной степени выражение программы позднесоветской интеллигенции в архитектуре.
Вероятно, что-то из этого действительно есть. Мы действительно пытаемся работать не потому, что так в голову пришло и я так сделал, а потому, что есть некая детерминация. Но вы знаете, что до меня, то это общая черта поколения. Потому что я вырос в такой среде, где ты был в общем-то детерминирован, так ли, иначе. Ну, были какие-то аномалии, какие-то чудаки, визионеры, но если ты принимал эту позицию, ты сразу становился маргиналом. Как я ни вырывался из этого, все равно, вероятно, осталась какая-то тяга к детерминизму. Но это не архитектурная школа. Школа жизни, я бы сказал. Но это же воплотилось в архитектуре.
Да, может быть как-то воплотилось. Насколько это интересно с точки зрения противопоставления западной архитектуре?
Ну, у московской архитектурной школы есть какие-то симпатичные черты. Они могут быть привлекательными. Да, есть даже любители, русофилы на Западе. Они любят развивающиеся народы, Зимбабве, скажем. И вот нас.
Мне кажется, средовой подход – это все же не Зимбабве. Давайте вернемся к нему. Вы признаете себя автором этого подхода?
Нет. Ну конечно, не автором. Я могу свою личную биографию рассказать. Когда мне было лет четырнадцать, мой брат, а он собирался во ВГИК на операторский, познакомился с одним фотографом. Конец 50-х, звали его Юрик, фамилию не помню. Был конец зимы, февраль, время такое замечательное, снег, солнце, и он нас с братом повел по каким-то фантастическим местам. Как бы показывать моему брату натуру. Крутицкое подворье, Симонов монастырь, Новоспасский, там Москва к концу 50-х кончалась, уже набережной не было, совсем не городское место. Потом еще Донской монастырь, там были рельефы от храма Христа Спасителя. В Москве никто такими вещами не занимался, за исключением редких чудаков, как вот этот фотограф. И меня это и поразило, и увлекло. Потом у меня в институте было несколько таких экзотических друзей. У нас считалось хорошим тоном любить проходные дворы – кто больше знает, кто может более странными путями провести. Ну такая особая городская субкультура. А потом я подружился с Алексеем Гутновым, которого принято считать автором средового подхода. В 60-е он занимался городами будущего, тогда был проект НЭР, а потом вдруг «машина времени» сломалась. Произошло это где-то в начале 70-х. До того все интересовались будущим, а тут вдруг пошло прошлое. Мы вроде продолжали про будущее, но как-то решили, что нам надо отойти в прошлое, поглубже изучить его, и вот тогда мы… И через два года вдруг оказалось, что мы уже все рисуем не города будущего, а какие-то странные вещи в исторической Москве. Интересно это было чисто художественно. На контрасте – какая-то старая ткань и на ней новые формы. К середине 80-х, когда уже Арбат сделали, это стало общим местом. Потом и общество «Память» подтянулось. Это поразительно даже, как все в эту сторону стали поворачиваться, хотя в конце 60-х это казалось ересью. Те, кто кричал: «Сейчас мы эту рухлядь разрушим», стали главными ревнителями старины. В России, впрочем, принято искренне, с душой следовать главной линии, как бы она ни петляла – не только в архитектуре. Вот и сейчас то же самое.
То есть несколько человек вокруг Гутнова взяли и придумали этот поворот.
Несколько человек. Для меня, кроме Гутнова, такими людьми были Сергей Телятников, Андрей Боков, Андрей Бабуров. Если говорить о Гутнове, он был интеллектуальный лидер. Он первый произносил главные слова.
Вы сказали, что вас интересовал контраст старой ткани и новых включений. То есть в основе был вполне художественный, пластический образ – столкновение двух временных фактур. Это ведь чисто пластический образ.
Я, разумеется, понимаю, насколько величественна фигура Гутнова, он гений урбанистики. Но когда его читаешь, невольно возникает ощущение, что ему не очень важно, как что выглядит.
Структуры, потоки, узлы, каркас, ткань, плазма – все это метафоры каких-то внутренних процессов, которые могут принимать разные внешние формы. А вы говорите именно о пластике.
Да. Я даже больше скажу, Гутнов не был художественно одарен. Он был лидером, у него было чутье, и он объявил это направление поисков главным. Он мог быть лидером где угодно. В политике, в науке. Нам повезло, что это оказалась именно архитектура.
Но в том, что возникло в 90-е годы, на Остоженке, был важен именно этот пластический аспект.
Вероятно. Всегда сначала высказывается суть идеи, потом она становится понятной, потом общим местом, потом опошляется и становится чем-то довольно отталкивающим.
Подождите, подождите. Это как-то слишком быстро. Давайте еще поговорим о сути подхода, еще рано об опошлении. Ведь от декларации до опошления по дороге была сделанная вами Остоженка.
Нет, так нельзя сказать, это глупость полная. Я категорически против, я никогда не делал Остоженку. Ну что мы сделали? Мы в конце 80-х написали некие правила того, как следует вести себя в этом районе. Ну, простые правила, типа при входе вытирайте ноги, мойте руки перед едой. И этих правил хватило, чтобы внести в застройку какое-то разумное начало, хотя они соблюдались в лучшем случае на треть. И это место стало «выставкой достижения русского капитализма». Но никак не больше того. Но то, что это Скокан придумал, бюро «Остоженка» – это даже не миф. Просто фигня.
Я все время пытаюсь сказать, что перевод идеи в реальные архитектурные формы – это достаточно сложно. Ведь старая ткань и новая архитектура – в них есть некая несоизмеримость. А вы нашли меру.
Искали. Мы исходили из того, что историческая среда ценна тем, что состоит из напластований. Это данность. Тот план развития территории, который мы сделали в конце 80-х, основывался на том, что мы восстановили все исторические границы владений. Нас тогда все поднимали на смех: «Вы что же, собираетесь восстанавливать владения?» Не собирались, но для нас эта парцелляция – своеобразная мерность пространства, местная сетка. Это главное, что мы тогда сделали. Потом оказалось, что если рисуется план, подхватывающий случайный, но уже существовавший абрис, линию – то все вписывается. Возникла сетка, нечто вроде миллиметровки – но только для данного участка. На этой сетке можно было рисовать что угодно. Заказали жилье – идем по одним линиям, заказали пешеходную зону – по другим. Но как бы вы ни шли, вы всегда подхватываете то, что уже существовало. И это был метод. Который можно усваивать, повторять, который собственно и составляет специфику средового модернизма. Ничего случайного, каждая линия следует какому-то историческому следу.
Тут есть другой аспект. Это прекрасная иллюстрация тезиса о переходе количества в качество. Когда в 20-е годы в этой архаической Москве появлялись какие-то конструктивистские сооружения, как Госторг Великовского на Мясницкой и Центросоюз Корбюзье, это было шикарно. Потому что было очень много старой массы застройки, и контраст работал сильно. А постепенно та самая ткань, в которую это все вставлялось, стала совсем редкой. И в какой-то момент вдруг оказалось, что все, хватит, стоп. Однажды, уже сравнительно недавно, ко мне обратились с просьбой спроектировать в начале Остоженки какой-то объект на месте сгоревшего диспансера. Я отказался, потому что я понял, что я не хочу там видеть никакую современную архитектуру. Ни свою, ни Скуратова, ничью, а делать старую я не умею. На наших глазах произошло истощение ткани, ничего не осталось. Даже странно. Я вот думаю – с точки зрения хорошей архитектуры есть неприличные вещи, которые нельзя делать: стилизация или классицизм.
Но, с другой стороны, ткань уже настолько ветхая, что никакие современные формы видеть не хочется. Среда уже не выдержит. Или уже не выдержала. В Москве столько всего произошло, что разговор о среде кажется каким-то запоздалым, уже не о чем говорить. Какая там среда!
Это звучит очень разочарованно. Создана школа, и вы ее зачеркиваете.
Я честно говорю. Сказать, что мне что-то на этой Остоженке нравится, наше, не наше – нет. Мы недавно сделали фильм. Пошли с Андреем Гозаком, привесили себе на головы камеры и прошлись по всей Остоженке. Гетто. Людей нет. Одни охранники в черных костюмах с проводами в ушах – только их и можно увидеть. Богатые люди покупают недвижимость просто для того, чтобы сделать выгодное вложение, и ставят охрану, но они не живут. Это не город, это вариант банковских ячеек, где деньги защищены от инфляции. Зачем тогда вся эта архитектура? Вместо района, имевшего свое лицо, свои характеристики, свою жизнь – ничего. Пустое место, которое дорого стоит. Знаете, во мне два человека. Один – который родился 60 с лишним лет назад в Москве, на Тверском бульваре, а второй – архитектор, который работает в этой Москве. И я часто бываю сам с собой не согласен. Как обыватель, как житель – мне не нравится. Мне вообще все не нравится, вот! Это почти опасное состояние. Как архитектор – я могу чему-то радоваться, но с точки зрения городской жизни, то что происходит – это катастрофа. Город исчезает. И мне не хочется говорить об архитектурных проблемах на фоне такой городской жизни. Получается, что мы уничтожили жизнь, а на фоне этого зато научились опалубку более-менее ровно делать, камушки, там, класть. Это несоизмеримо. Но одно с другим не связано так непосредственно.
Не знаю. Сама суть средового подхода заключалась когда-то в том, что среда – это больше, чем архитектура. Среда – это жизнь, социальная жизнь в городе. Без нее средовая архитектура неполноценна по определению. Мы же не памятники архитектуры создавали, которые должны потом стоять пустыми и вдохновлять архитектуроведов. Мы пытались создать пространство для жизни, а в результате все умерло. Но тогда о чем я толкую?
Зачем я работаю?
Хорошо. Будем считать, что средовой подход закончился.
Он не закончился. Он переродился в идеологию архитектурной бюрократии, в систему согласований и используется сегодня как основание для коррупционных схем. Когда мы все это придумывали, трудно было предположить такой поворот.
Но так или иначе, средовой подход был последней большой идеей в нашей архитектуре. Что теперь?
Вместо средового подхода? Вероятно, можно сказать, что происходит какая-то индивидуализация. Общей темы нет. Что до меня, я буду продолжать делать что делал. Ну, назову это не средовым, а контекстуальным подходом. Мне лично в любой ситуации все равно нужны точки опоры. Я должен за что-то зацепиться, для себя установить какие-то реперы, мерность пространства, конфигурацию того, в чем творить. Но другому человеку, возможно, это и не нужно. У некоторых система мира всегда с собой, они ее достают из головы и делают. Есть такие счастливые люди, я не из их числа. Но раньше это был общий подход, методика, от которой так или иначе отталкивались, а теперь это оказывается, ну, скажем, следствием моей психофизики. Это индивидуализация.
Но это же приводит к одиночеству. И кстати – время формирования средового подхода, группа Гутнова – это довольно острый интеллектуальный контекст. Вы сейчас некоторой разреженности интеллектуальной атмосферы не ощущаете?
О да, конечно. Та атмосфера начала 70-х, когда мы были аспирантами ЦНИТИА – я, Андрей Боков, Владимир Юдинцев – это был такой клубок! Там были Вячеслав Глазычев, Андрей Бабуров, Гутнов заходил, там были славянофилы, Михаил Кудрявцев и Геннадий Мокеев, все это варилось в одном котле, и это, конечно, было очень сильно. Я не знаю, может быть, мой пессимизм связан с возрастом. Но, с другой стороны, ведь действительно, у нас больше нет интеллектуальных центров. Ни Академия архитектуры, ни Союз – они же не выполняют этой роли. Тогда было общепринято, что человек работает еще зачем-то. Кроме повседневной работы, есть еще какая-то. Это, кстати, на Западе еще сохранилось. Скажем, я недавно был с лекцией в Больцано. Крошечный город, 100 тысяч жителей, но там есть своя архитектура фашистского времени. Очень интересная. И вот я там познакомился с местным архитектором, Освальдом Цогелером (Oswald Zoeggeler), он примерно моего возраста, может быть, чуть старше. Он издал огромную монографию про эту архитектуру. Или, скажем, Поль Шеметов, я с ним когда-то общался. У него монография о парижской производственной архитектуре – это помимо его основной, градостроительной тематики. Зачем они это делали? Зачем мы это делали тогда? Я не знаю. Потому что было ощущение, что ты еще что-то должен. И оно ушло. Ну что сказать? Интеллектуально я ни с кем сегодня не взаимодействую. Нет никого в цеху. Это яма.
Скажите, а что бы вы хотели еще построить?
Мне бы хотелось что-то построить в каких-то других ситуациях. Не в городе, тут все очень субъективно, а в природе. Например, в горах. Я люблю горы, у меня там эйфория. Я знаю, как мне кажется, как нужно строить в горах. Там нужны горизонтали. Вообще хочется достичь, ну, гармонии, если угодно. Если строить в горах, я хочу так делать, чтобы это не оскорбило ничьего взгляда. Для меня очень важно слово «уместность», и мне бы хотелось стать там уместным.
А в Сочи вы проектируете? К Олимпиаде?
Нет, там я решил не участвовать. Там неправильно все, ничем хорошим это не кончится. Я человек немолодой. Мне не хочется участвовать в этом.