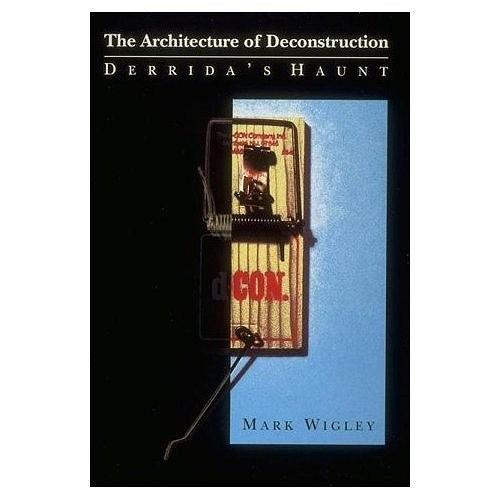На первый взгляд стороннему человеку может показаться, что деконструкционизм в архитектуре – это попытка архитекторов ответить на идеи, добытые в деконструкционистской философии. В какой-то степени так можно думать, но на самом деле Жак Деррида никогда никаких идей архитекторам не предлагал и даже в тех случаях, когда архитекторы сами просили его высказаться об архитектуре или принять участие в проектировании – держался подчеркнуто нейтрально, ограничиваясь весьма сдержанными и некатегоричными комментариями.
Связь архитектуры и философии, по мнению Вигли, должна быть выявлена в самой истории философии, которая испокон веков использовала архитектуру в качестве метафоры. Упоминание «архитектурной метафоры» может пустить читателя по ложному следу. В теории архитектуры метафора привлекала внимание зодчих, как способ формотворчества. Классический пример – имитация в камне деревянных конструкций трактовалась у нас В.Ф.Маркузоном как архитектурная метафора, то есть перенос формы с художественой целью. Все современное движение так или иначе сводилось к архитектурной метафоре машины.
Но в книге Вигли никаких вариантов переноса архитектурных форм не рассматривается. Тут рассматриваются использование тектонических метафор в самой философии. Однако, думать, что из-за этого книга имеет исколючительно философский смысл и не связана на прямую с архитектурой было бы неверно.
Само понятие архитектуры в книге Вигли используется в двух смыслах. Порой он использует это понятие как синоним строительства и тектоники, порой же он имеет в виду собственно архитектуру, как область детельности, только отчасти связанную со строительством, но к строительсву не свдимую.
В истории философии можно найти множество примеров заимствования философами тех или иных архитектурных метафор. Заимствует образы архитектуры Платон, Аристотель, Декарт, Кант, наконец Хайдегггер. Чаще всего философы обычно заимствуют у строительства идею основания, фундамента, на котором воздвигается здание.
Происходит это потому, что начиная с античности философия начинает строить метафизические системы. Но строительство философской системы требует от философа прежде всего выбора надежных «оснований», «фундамента», с тем, чтобы все здание его философии не рухнуло. Философия и до ХХ века оставалась в плену архитектурно-строительной метафорики, а одним из наиболее усердных строителей философских систем в ХХ веке был ни кто иной как Мартин Хайдеггер, не только использовавший строительные метафоры, но даже написавший статью «Строить – Жить - Мыслить», сближающую эти способы деятельности и бытия.
Однако интерес к фундментам в философии проявляли не только те, кто намеревался построить нечто невиданное, как Хайдеггер, но и те, кто критически оценивали философские системы прошлого. Иммануил Кант, разбирая философские системы, исходит из того же постулата, что ценность их прежде всего определяется тем, на чем эти философские системы строятся. Таким образом в философии сложились два продхода к проблеме фундаментов – одни философы искали эти фундаменты, чтобы строить на них свою метафизику (то есть наиболее общие философские категориальные конструкцуии), другие критиковали эти фундаменты за неспособность эту метафизику удержать.
Для архитекторов, выросших в советское время, критика философских концепций была известна в основном как критика бужуазного дискурса. Советские философы тоже обращали внимание на фундаменты и отметали все те концепции, которые строились на основе идеализма или отсутствия диалектики. Эти концепции объявлялись неспособными ни объяснить, ни построить «Новый мир» в противоположность самому марксизму, который считался не только «научным», и, следовательно, хорошо «обоснованным».
В ХХ веке сложилась западная марксистская критика философских концепций, представителем которой и оказывается Жак Деррида. С точки зрения Дерриды никакая философская концепция не может считаться прочно обоснованной и никакая метфизика не может опираться на прочный фундамент.
Система взглядов самого Дерриды не составляет исключения и потому он не называет ее «философией», а считает только способом деконструкции, то есть «разборки» (Abbau).
И архитектура, и философия стремятся не только обрести фундамент или твердое основание для строительства, но и строят свое сооружения для какой-то цели – то есть стремятся построить нечто, что отвечало бы кроме критерия «прочности» еще чему то, пусть хотя бы витрувианской «пользе» и «красоте». Прочность оказывается нужной не сама для себя, а чтобы соорудить нечто полезное или прекрасное. И если в архитектуре это необходимые для жизни помещения и красивые композиции, то в философии – это ответы на злободневные вопросы бытия о смысле жизни, правилах и формах общественного устройства, наличия или отсутствия в мире таких вещей как справедливость, истина или прогресс. Оказывается, что в философии всего этого основательно доказать нельзя и все философские системы, строя свои доказательства, на деле достигают чего-то другого, впрочем порой небесполезного, например, устанавливают связи между понятиями или достигают лучшего понимания самих понятий. Деконструкция проводит экспертизу того, как эта система построена и в каком месте у нее несоответствия. В той же степени никакая архитектура (не строительство) не может покоиться на твердом основании, она всегда произвольна.
Спрашивается, как же может такая филосфская позиция, такой тотальный и «фундаментальный» (!) критицизм соблазнить архитекторов. Что они должны, опираясь на этот философский итог – отказаться от архитектуры?
Недавно мы были свидетелями как здание «современной архитектуры», долгое время считавшееся прочно покоящимся на своих идейных основниях, под критикой постмодернизма повисло в воздухе. Тогда одни пустились во все тяжкие и, сняв с себя обязательство что-то утверждать и доказывать, стали отдаваться стилям и клиентам за разумную плату. Те же, кто не захотел ступить на этот сколький путь – к их числу относятся Эйзеннман и Чуми – стали думать, нельзя ли все же по примеру философии создать нечто, что держалось бы, ни на что ни опираясь. Но были и такие сторники деконструкции в архитектуре, которые с помощью разных композиционных приемов стали избражать нечто «рухнувшее» и «поехавшее». При этом опирались эти деконструкционистские образы как раз на здоровую строительную тектонику.
Но Вигли ничего этого в своей книге не рассматривает. Он ограничивается анализом того, как же в самом философском дискурсе была обнаруженая его тектоническая несостоятельность и к каким серьезным последствиям эта несостоятельность может привести архитектуру, которая за две тысячи лет привыкла уже не столько подавать пример философии, сколько брать у нее уроки.
Тут важно отметить, что претензия на основательность предполагает, что конструктор имеет взможность выйти за рамки своей деятельности и своего объекта. Строитель, например – опирает постройку на землю, которая не есть дело его рук, но может ли философ или архитектор найти такое внешнее основание и более того, если он его даже и найдет - сможет ли он на нем что-нибудь построить?
В первой половине ХХ века марксисты считали, что таким основанием является материальное производство, труд (базис!) а все остальное – надстройка. Но ведь базис-то руками не взять – это ведь философская категория, все та же знакомая нам тектоническая метафора. Или скажем – в архитектуре – попробуем взять самую идею тектоники или пропорции – это ведь тоже уже некие теоретические посылки самой философии архитектуры. Вигли таким образом приходит к вопросу о том, на чем может строиться теория архитектуры, если опереться при этом на ту или иную философию она уже не может.
А ведь в философии и в архитектуре исследуется нечто очень серьезное – смысл человеческого бытия, и этот смысл, хотим мы пользоваться строительной метафорой или не хотим, все же придется признать своего рода основанием всего прочего.
Вигли рассматривает обнаруженые Дерридой отношения между архитектурой и философией, не делая поспешных выводов. Он начинает с того, что Деррида во всех своих работах постоянно обращается к концепции пространства, как продукта письменности. По мнению Дерриды, именно письмо как овеществленные в пространстве звуки речи делают пространство важнейшим феноменом культуры. Однако Деррида различает в понятии пространства, столь важного для архитектуры, две стороны. Одну можно считать тем, что в архитектурной теории принято называть «организацией» пространства, то есть вутренним отношением частей архитектурного целого друг к другу. Эта сторона дела в конечном счете отождестялется Дерридой (вслед за Кантом) с орнаментом. Другая сторона пространства с точки зрения Дерриды есть акт придания сущестованию пространственности, акт «опространствления». Так знак, имеющий в устном выражении свое звучание и свой смысл, в письме становится чем-то сугубо пространственным, его составляющие (не обязательно буквы или иероглифы) отделены пространственными разрывами друг от друга и сам знак как целое – отделен от других знаков пространством. Знак как бы порождает это свое «знаковое» пространство.
В аналогичном ключе Хайдеггер в своей знаменитой статье о «Происхождении произведения искусства» решает вопрос об основании здания. Он пишет о том, что в восприятии архитектурного сооружения мы видим не то, как здание покоится на независимом от него фундаменте, но то, что здание самим своим существовнием превращвает землю в такой фундамент. Обобщая это наблюдение на метафизику, мы могли бы сказать, что метафизика не столько покоится на чем то, сколько создает уверенность в том, что она вообще на чем-то покоится, что она основательна. Таким образом метафизика тут сближается с искусством и архитектурой, скорее, чем с наукой. Здание удовлетворяет нашу потребность в фундаменте, а метафизика – потребеность в основательности, прочности бытия.
Только удовлетворив эту потребность, здание и метафизика могут предложить нам свой орнамент, как нечто дополнительное к фундаменту и конструкции. Хотя этот орнамент-то на самом деле и порождает в нас уверенность в том, что он на чем-то держится. Вигли замечает в связи с этим, что многократное использование архитектурных метафор в текстах Дерриды никак не преследует цель деконструкции архитектурного дискурса. При всей своей необоснованности архитектра оказывается столь внутренне самообеспеченной, что философии остается только имитировать эту ее самостоятельность. Но ведь ясно, что отношение архитекторов к философии обратно-симметрично. Архитекторы, сомневающиеся в самостоятельности архитектуры, ищут в философии способа ее упрочения и обоснования. Во всяком случае, этого от них требует отчасти их собственная интеллектуальная совесть, а отчасти социальные институты, которые больше доверяют философии, чем архитектуре.
Деррида, полагая пространство продуктом письменности, постоянно опирается на противопоставление внешнего и внутреннего. Внутреннее для него это голос, живая устная речь, внешне – письмо, графический знак. Внутреннее, голос – присутсиве (presence), внешнее – представление (representation). Тем самым Деррида позволяет вовлечь в дело метафоры – интерьера и экстерьера. И тут он вновь оказывается в прямой связи с Хайдеггером, которому неукоснительно следует, и которого столь же целеустремленно преодолевает.
Хайдеггер, особенно в своих последних работах, постоянно возвращается к идее языка – как «дома бытия». Дом, в данном случае, мыслится Хайдеггером не как усадьба, увиденная издали, и прочитанная с помощью словаря архитектурных стилей, а скорее как интерьер жилища, семья. Собственно «дом» - это уже не архитектурная (хотя отчасти еще и архитектурная) сколько бытовая, социально-психологическая, метафора. Дом и язык по Хайдеггеру, - это то, что близко, свое. То что приручено, одомашнено, родное. В этом Хайдеггер близок к Фрейду, который в статье «Жуткое» (нем. Unheimliche) противопоставил все чужое, внешнее, как «жуткое» - своему, домашнему, родному. Тема «жуткого» в дальнейшем была применительно к архитектуре развита Энтони Фидлером в его книге «Жуткое» (англ. Uncanny).
Через язык, по Хайдеггеру, человек преодолевает безосновность своего бытия, ужас подвешенности над бездной и обретает мир и покой. В этом смысле архитектура опирается не на фундамент, а на язык, на культуру и выражает всем своим орнаментальным существом смысл этой одомашненности во внешнем мире. Но тут Хайдеггер сам впадает в род метафизики, с которым воюет. Его убежденность в том, что дом можно рассматривать как спасение от жути мировой бездны, с точки зрения Дерриды, иллюзрно. Деррида стремится показать, что то языковое пространство бытия, на котором настаивает Хайдеггер, давно уже из внутреннего стало внешним, освоено письмом и институтами власти и по сути дела – только маска для прикрытия насилия и «домашнего ужаса». Вигли пишет, что Хайдеггер не отрицает ужасов домашней жизни, но он все же отделяет их от понятия самого «дома». Эти ужасы у него только события или вещи внутри дома, но не сам дом. Деррида же пишет, что ужасен и чужд человеку именно сам дом, именно тут человека настигают все насилия мира, именно тут он полнстью беззащитен против этого насилия.
Можно заметить, что открываемый в деконструкции домашний «кошмар» бытия в известной мере есть следствие изначальной решимости отказаться от всякой сакральной трансцендентности, от космоса и Бога. Имманентная традиция философии марксизма в данном случае приводит к такому результату вследствие размыкания Dаsein'а в мир, его открытости миру. Деррида, однако, не задает Хайеггеру вопрос о том, возможно ли раскрытие Бытия в мир вне его предварительной космизации. А этот вопрос с точки зрения хайдеггеровской онтологии ничуть не менее существененый, чем его полагание первичности «заботы».
У архитекторов эта полемика может вызвать в памяти витрувианскую притчу о «хижине», из которой вырастает вся архитектура, как это представил в своем трактате аббат Ложье. Но Вигли проходит мимо этого момента, как и мимо того, что, попав в дом, как убежище от ужаса жизни, мы в какой-то мере покинули ту архитектуру как нечто полезно-прекрасное, с которой началась эта деконструкция, архитектуру, в которой орнамент репрезентации держится на твердом фундаменте тектонических и философских оснований. Сам по себе этот оставшийся незамеченным сдвиг, говорит, в частности, о том, что понятие архитектуры в истории метафизического дискурса переливается столь разными красками и обретает множество столь далеких друг от друга смыслов, что между ними уже зияет – то ли бездна Хайдеггера, то ли пространство Дерриды.
Итог первой половины книги Марка Вигли, при всем остроумии его реконструкции мыслей Дерридыв и Хайдеггера не дает нам ничего принципиально нового. Такие же предупреждения против доверия к архитектурной форме мы читали у Тафури, мы уже давно знаем, что соблазнительные картинки из глянцевых журналов нужно рассматривать как рекламу и понятно, почему на обложке книги Вигли изображена мышеловка
***
Вторая половина книги Марка Вигли посвящена детальному анализу соотношения деконструкции метафизики и архитектурного пространства, она превращается в некий фильм ужасов. Тут являются на свет крипты с захоронениями, привидениями, призраками, насилием и паразитами, всякая жуть, уродство и даже рвота, которой отведена особая глава. Здесь мы попадаем в царство кафкианских кошмаров.
Все эти мерзости демонстрируют открытый деконструкцией Дерриды скрытый в метафизике дома, как уютного и защищенного места. – его внутренний ужас. Дом на самом деле не защищает человека от страхов и ужасов внешнего бытия, показывает Деррида. Напротив, все то, что угрожает человеку вовне – есть и внутри. Эта идея Дерриды строится на деконструкции самой исходной для всего его понимания пространства оппозиции внешнее/внутренее. Язык как дом бытия в той же степени оказывается и внутренним пространством, подручным человеку и внешним пространситвом, пространством языком закона, приговора.
Язык же и порождает пространство, и сам насквозь пропитан пространственными отношениями, поэтому язык и архитектура оказываются сопряженными феноменами и при этом так, что архитектура для деконструкции, по мнению Вигли, становится ее «ахиллесовой пятой», то есть незащищенным местом. И незащищенность эта может пониматься как следствие фундаментальной (!) пространственности языка. В языке мы постоянно сталкиваемся с оборотами типа – «отсюда следует», «иметь место», «если ограничиться», «несовместимы» и пр. Язык весь насышен пространствеными смыслами в степени, не меньшей, чем дом насыщен языковыми значениями.
Европейская философия, избрав имманентное (то есть не опирающееся на трансцендентное, сверхъестественное), строит смысловую конструкцияю, пропитанную символами пространства и насилия. Порядок человеческой жизни насквозь политичен, законообразен, он всюду вводит ограничения и контоль над человеком, не оставляя ни в его доме, ни в его сознании ни малейшей возможности укрыться от своего вездесущего наблюдения и угроз. Весь этот жуткий контроль прикрывается декорациями, вводящими прячущего это насилие и затаскивающие его в самую глубь бытия. Опознание этого обстоятельства прорывается в психозах и в искусстве. Поэтому психика и искусство и становятся спутниками политического контроля и особо важными предметами философского анализа.
Архитектура попадает в сферу языка как «дома бытия» (его же тюрьмы) и как сфера устанавливающая пространственные формы существования, и скрывающая их от прямого наблюдения. В этом сложность и самой архитектуры и ее философской рефлексии. Деконструкция есть способ освобождения от двойного контроля – и от подчинения насилию и от уступок соблазнам.
Но это долгий и трудоемкий путь.
В Заключении своей книги Вигли приводит огромный список направлений деконструктивных анализов (он занимает почти целую страницу), в которых критике должны быть подвергнуты все институты, обеспечивающие философское и архитектурное обустройство жизни, от эстетики до нормировки изготовления чертежей для построек. Ибо все это институты, охраняемые как извне – со стороны других институтов, так и изнутри, соблюдающие собственные нормы и законы.
Автор книги объясняет, почему в ней так мало места уделено собственно архитектуре и архитектурным пассажам самого Дерриды. Он говорит, что книга – это только «порог», с которого должна начаться эта гигантская работа деконструкции.
У российского читателя невольно взникает вопрос - кто же будет вести эту работу, откуда сыщутся сотни или тысячи профессионалов, владеющих и философской деконструкций и всеми сопряженными с архитектурой институтами деятельности? Но допустим, что это произойдет и что гигантская рабта по деконструкции философского обеспечения архитектуры будет проведена. Что с этим делать?
Тут стоит вспомнить Вавилонскую башню, с которой начинается книга. Вавилонская башня, по Вигли, – это и есть иносказательный образ архитектуры, которая только и может существовать как незавершенная попытка вознести человека на небо и которая была разрушена Богом, дабы люди утратили общий язык, необходимый для осуществления таких супер-проектов. Язык и архитектура - две стороны одной медали. И множество деконструктивных опытов родит языки, на которых люди будут говорить. Но смогут ли при том они понять друг друга?
Создается впечатление, что скептический и трагический образ внутренне несовместимых установок языка и архитектуры на такую надежду места не оставляет. Так что же – значит ли это конец архитектуры (сам то язык останется средством ее деконструкции)?
Вигли не ставит этого вопроса ни перед читателями, ни перед самим собой. Он остается « на пороге», ограничивается введением в проблематику. И мы не вправе требовать от него большего. Мы живем в начале столетия и тысячелетия, когда самое время выдвигать программы и открывать пути в это будущее, в том числе и путь его тотальной деконструкции. Нет никакого сомнения в том, что путь этот обещает архитектуре массу невероятных открытий и разоблачений. Книга Вигли вышла в 1993 году и за десять лет вероятно отчасти его план был реализован. Но появится ли возможность конструктивно использовать результаты деконструкции архитектурных институтов?
Такая возможность должна выходить за рамки деконструкции. Быть может, деконструкция сама по себе не схватывает чего-то не менее существенного, чем выявленная ею внутренняя обреченность конструирования «над бездной». Для конструктивного использования итогов деконструкции потребуются принципы, в корне отличные от самой деконструктивной методологии. В какой области мы можем их искать - в мифологии, идеологии, религии, то есть там от чего отказывается мысль, следующая принципу имманентности? Сегодня ясно только, что не в науке, а где – это и предстоит обсуждать в начавшемся столетии.
Деррида критикует философскую метафизику и идеологию архитектуры, опираясь на метафору «основательности». Но быть может они и не подчиняются тектонике земного строительства, а держатся силами внутренних напряжений, как в свое время держалась «стоячая нить» В.Колейчука.
Древние космологические модели исходили из строительной статики. Земля считалась покоящейся на трех слонах. Сегодня устойчивость планет понимается динамически, как результат напряжения между центробежным импульсом их вращения и силой тяготения. Тогда возможно и социальные или эстетические конструкции могут держаться на внутренних напряженностях и все то «насилие», которое обнаруживает в действительности архитектуры и философии Деррида, хотя бы отчасти – необходимое следствие внутренней напряженности этих систем, обеспечивающих их устойчивость. Не придется ли философии и архитектуре сменить парадигму статики сооружений на динамику орбитальых полетов? Не будет ли это оправданием насилия в обществе как условия самосохранения социальных отношений? Но ведь и природа живет, поедая живое.
Наконец, где может быть обнаружен дополнительный по отношению к деконструкции принцип конструктивности? Конечно, не в утопиях конструктивистов начала ХХ века и не в архитектурных фокусах Захи Хадид и Питера Эйзенмана. Но где найти антитезу? Быть может, она вообще лежит вне пространства, а например, – во времени?