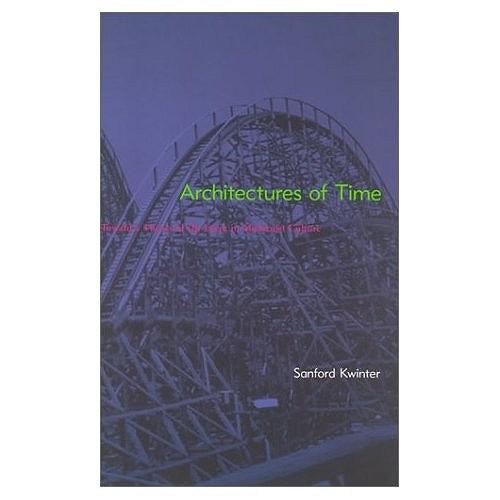Sanford Kwinter. Architectures of Time.
Toward a Theory of the Event in Modernist Culture
The MIT Press
Cambridge, Massachusets.
London, England
2002
Небольшая, в двести страниц, книга профессора Сэнфорда Квинтера «Архитектуры времени» написана столь плотно, что для изложения и комментирования ее идей потребовалось бы, наверное, гораздо больше места.
Книгу можно условно разделить на три части. К первой можно отнести содержание глав, в которых Квинтер строит свою концепцию времени в архитектуре, ко второй - проекцию этой концепции на творчество итальянсокго архитектора, футуриста Антонио Сант-Элиа и, наконец, третью, в которой автор занимается анализом повести Франца Кафки «Метаморфоза»
Почему Квинтер относит эту повесть к архитектуре мы, конечно, постараемся объяснить, но не более. Мы попытаемся охватить только те разделы книги, в которых Квинтер строит свою концепцию времени в архитектуре, и бегло коснемся более привычной для нас проекции этой концепции на проект города будущего Антонио Сант Элиа.
Главной идеей всей книги можно считать идею эпохальной переориентации взглядов человека на окружающий мир, отказ от идущей от античности идеи о неподвижности мироздания и соотвественно понимания архитектуры как организации пространства в этом более или менее неподвижном Космосе. Согласно Квинтеру эта идея не соответствует ни современым взглядам физиков на природу, ни условиям современного человеческого опыта жизни. Квинтер предлагает следующую идею эволюции понимания пространства и времени.
В античносм мире Эвклидово пространство понималось как свойство твердых тел иметь определенную форму, размеры и занимать какое-то место по отношению друг к другу. Позднее в эпоху Нового времени, когда физика начала заниматься движением с ускорением, Ньютон, опираясь на Декартовы координаты, ввел новое понимание пространства – как бесконечного вместилища твердых тел, как прозрачную пустую среду, в которой движутся тела и лучи света. Открытие Джемсом Максвеллом электромагнитного излучения поставило вопрос о среде распространения электромагнитных волн, к числу которых относятся и лучи света и пространство Ньютона стали понимать как неподвижную и бесконечную область некоторой прозрачной среды – эфира.
Однако опыты Майкельсона Морли поставленные в 1888 году, показали, что эфира нет и Эйнштейн в 1905 году выдвигает теорию относительности, согласно которой эфира не существует, а пространство и время составляют некий 4-х мерный континуум. Время перестало быть чем-то в принципе отличным от пространства, став, наряду с пространством, одним из векторов мировых событий.
С этого момента, по мнению Квинтера – начинается и перемена в восприятии человеком окружающей его среды. Происходит это в связи с изобретением разного рода машин и механизмов, скорость и дальнодействие которых изменяют телесность и темпоральность человеческих переживаний. Прежде всего он образает внимание на средства передачи информации – в частности на мегафон или громкоговоитель, который позволяет обращаться к толпам. Новые средства транспорта и информации, движущаяся динамичная среда современных городов плюс новая физическая картина мира, действуя совместно, приводят к изменению человеческого восприятия и создают новую непрерывную среду событий, в котрой как в сложном лабиринте нет внешних позиций для ее созерцания, которая вся переживается изнутри и в движениях, актах поведенческого функционирования и соотвествующего зрительного считывания.
Одновременно Квинтер подчеркивает, что привычка видеть мир как состоящий из твердых тел и пустот между ними, которые позволяют нам видеть вещи извне и наблюдать их движения – только частный случай состояния материи, фундаментальной формой движения оказываеются изменение полей и интенсивностей. По мере уплотнения городской среды и развития средств передачи информации – полевые феномены все в большей степени выходят на первый план, а вещественные, геометрические – отступают.
Однако эта динамика городской среды – только часть изменений восприятия времени. Вторая часть сопряжена с исторической трансформацией среды и возникновением в ней «нового». Квинтер задает фундаментальный вопрос, волновавший - в разных формах - человека с глубокой древности, - откуда в мире возникает нечто Новое? Для элеатов этот вопрос был тождествен вопросу о возможности самого движения. Ответы на этот вопрос Квинтер делит на два класса. Согласно первому в мире не может быть ни движений , ни нового. Все что есть в мире и бытии – в нем уже есть. Всякое движение и всякое новообразование - иллюзия.
Согласно второму классу ответов Новое есть следствие постоянного становления мира, его непрерывного изменения. Новое не приходит в мир откуда-то извне, просто мир постоянно переходит из виртуального состояния в актуальное. В этом отношении Квинтер ссылается на философов постструктуралистов, отказывающих мировоззрению в праве на какукю-бы то нибыло трансценденцию. Мир имманентен и новообразования в мире приходят не извне, а совершаются в самом мире, свойство которого непрерывно изменяться и есть его фундамиентальное имманентное свойство, выраженное в частности в категории времени, которую, в отличие от Канта Квинтер скорее склонен считать не категорией нашего разума, а реальной силой, производящей реальные мировые изменения.
В такой перспективе человек уже не противопоставлен миру как автор, творец или созерцатель, а скорее включен в него как один из агентов и элементов этого всеобъемлющего процесса трансформации. Мы и раньше знали, что человек творит мир, а мир творит человека, но только теперь, в новой редакции понимания времени, эти процессы буквально совпали и теперь само творение мира человеком и творение человека миром становятся все менее и менее различимы.
Вот тут проходит главная грань, отличающая мировоззрение древних и нашего времени. Древние мыслили мир уже сотворенным и неизменым, мы же живем в мире ежесекундно меняющемся.
Время оказывается не только координатой многообразных движений, но и некоторой реальной силой, которая эти изменения проиводит.
Говоря о понятии «современности» ( modernity), Квинтер подчеркивает, что это понятие как раз и сопряжено с постепенным осознанием того, что наш мир не только не неподвижен, но и не завершен в своей форме, что он находится в непрерывном становлении и трансформации. В связи с этим он подчеркивает значене идей Фридриха Ницше и Анри Бергсона, в философии которых традиционная метафизика или онтология устойчивого и покоящегося мироздания уступила место динамическому представлению о мире, как арене непрерывных трансформаций.
Меняются не только техническеи агрегаты, освоенные застройкой территории, не только принципы науки и технологии, но и стили видения и категории сознания, психологические реакции и когнитивные образы мира, структуры воображения и понимания, способности и желания.
Все эти изменения имеют полиитические, экономические и психологическеи следствия, но они же меняют и проектное мышление и воображение, которое все больше начинает мыслить себя не наподобие Бога-творца созидающего идеальные (утопическеи или реальные) миры, а чем-то вроде агента управления, действующего в локальной сфере частного события,ограниченного определенными обстоятельствами и временем, отнесенным к самому содержанию этих обстоятельсв в большей степени, чем к какому нибудь Большому, идеальному времени Всемирной истории. Новый мир так осознанного времени все больше пронизывается образами не твердых и самосохраняющих свою форму вещей, а скорее каких-то сгустков интенсивностей, он все более уподобляется атмосферическим и жидкостным процессам, что в свою очередь соответствует и новым физическим теориям И.Пригожина и Р.Тома, в которых основное место занимают нелинейные процессы в турбулентных потоках и катастрофы, рождающие новые формы и даже самовоспроизводящиеся структуры материи. В таком динамическом мире трансформаций исчезают не только контуры неподвижных и устойчивых геометрических форм, но и самое разделение субъекта и объекта. Для интеллектуального освоения этого нового мира, по мнению Квинтера, необходимо создать совершенно новую систему категорий в которых бы преодолевались бы рудименты классической системы представления о мире.
Сэнфорд Квинтер считает, что в сфере искусства и архитектуры эти эпохальные изменения первыми заметили футуристы и Томмазо Маринетти назвал их уже в своем Футуристическом манифесте 1909 года. Позднее итальянский скульптор Умберто Боччони придал им еще большую конкретность и сумел истолковать ранее накопленные идеи формальной школы в искусствоведении в новых динамических категориях скорости, одновременно применив эти образы для создания пластических форм, выходящих за рамки воспроизведения движения через повторение его фаз – как в фотографиях Мьюбриджа или знаменитой картине Марселя Дюшана. В скульптурных опусах Умберто Боччони формы теряют геометрическую связь с предметом и образуют как бы динамические поля вокруг него.
В наибольшей же степени эти идеи, по мнению Квинтера, оказались выраженными в графических работах Антонио Сант Элиа, который воплотил их в своем проекте города будущего.
Здесь Квинтер обращает внимание на то, что хотя в этих графических листах еще сохраняется унаследованная от классицизма осевая симметрия, акцент переносится на движение и незавершенность объекта. Собственно объект в графике Сант-Элиа становится непрерывным и расширяющимся, целое исчезает, а на первый план выходит фрагмент, сочленение форм, функциональный узел, в котором осуществляется коммуникативный процесс.
Рассматривая повесть Франца Кафки «Метаморфоза», Квинтер находит в ней изображение пространственно-временного порядка в еще большей степени отличного от стереотипа статического мира, данного извне. Мир Кафки весь строится изнутри и все его движения оказываются имманентными и в то же время случайными событиями, возникающими на границах предметных слоев этого мира, при этом Йозеф К, герой повести Кафки и мир его обитания в равной мере наделяются активностью и динамикой.
***
Таковы в крайне сжатом , упрощенном и неполном изложении некоторые из основных идей этой замечательной книги, которую Питер Эйзенманн оценил как « мощное окно в мир современной мысли».
Присоединяясь к этой оценке, можно только заметить, что речь идет скорее о постановке проблем, чем об их решении ( тем более что «окончательного» решения тут нельзя себе представить, так как сама категория окончательности окончательно тут преодоляется. А раз так, то несколько замечаний все же хотелось бы сделать. Например, даже видя в скульптуре Умберто Боччони выражение новой мировой онтологии движения мы невольно вспоминаем близкие к ней формы пластики Арнуво, если не говорит о барокко, Со знаменитой берниниевской святой Терезой и вообще всей стилистикой экстаза, активно захватывающей и архитектуру уже с 17 века. Едва ли экстатические формы можно связывать только с радикальной траенсформацией восприятия мироздания, экстатические формы имели место и дионисийстве древних, о чем писал тот же Ницше.
Во-вторых, попадая в мир непрерывных трансформаций, человек естественно лишается возможности и способности созерцания, предполагющей хотя бы относительную устойчивость форм и возможность дистанцирования от них. Наконец, те процессуальные образы, на которые ссылается Квинтер, отсылают нас не столько к искусству, сколько к функциональной организации процессов (тут мы попадаем в ситуацию конструктивистского отказа от искусства и в, казалось бы, пройденный этап производственничества), либо в ситуацию безумия ( в которую, увы, попал герой повести Кафки). И та и другая перспектива не столь соблазнительны, чтобы полностью менять ради них все традиционные представления.
Да и идейная близость к футуризму сегодня утрачивает свою привлекательность. Не кажется невероятным, что обожествлявший не только технику и большой современный город, но и войну Маринетти, узнав о том, что произошло с Хиросимой в 1945 году, почувствовал бы некий род творческого удовлетворения, как, возможно и 11 сентября 2001 года. Точно также перенесение физических теорий катастроф и турбулентных процессов на область социально-культурных и архитектурных процессов не может не вызвать воспоминаний о вере в творческий потенциал бунта и культурных революций в русле анархических концепций конца 19, начала 20 века. Действительно ли мы должны видеть в модернистской культуре триумф стихии, в которой категория свободы останется всего лишь архаической иллюзией. Ведь воля к власти, выраженная в аристократической архитектуре классики, все же предлполагает степень свободы, неизмеримо большую, чем фрактальный узор спонтанности. Должны ли мы распрощаться с идеалами свободы перед аргументами новых физических теорий?
Да и столь ли это необходимо?
Теория Эйнштейна приводит к ощутимым изменениям в наблюдаемых событиях только при скоростях, близких к скорости света. Мы, слава Богу, живем несколько спокойнее. Турбулентные процессы в нашей жизни тоже имеют место, но наше место в них пока что не определилось. Интереснейшие страницы книги Сэнфорда Квинтера описываают новые виды спорта, связанные с новой телесной чувствительностью скалолазов и спортсменов, занимающихся серфингом, но в какой мере этот опыт можно было бы распространять на все сферы нашей жизни, конечно, не ясно.
Книга Квинтера строится на огромном литературном материале, его осведомленность в вопросах современной науки и философии вызывает восхищение. Но некоторые главы философской и художественной мысли он оставляет в стороне. В книге не упомянуты ни Гегель, ни Шеллинг, ни – быть может спорные, но все же небезинтересные идеи оккультных мыслителей 20 века о движении, как вибрации и пульсации, то есть ритмологии, которая будучи важной темпоральной стихией, вообще осталась за рамками квинтеровских рассуждений, а ведь как раз ритмология позволяет ввести своего рода новый тип устойчивости в динамические процессы, в ней есть своя линейность, которая может оказаться в неожиданной гармонии с нелинейностью.
Разумеется, было бы нелепо предъявлять эти соображения в качестве критических. Квинтер дает читателю такой мощный энергетический импульс к размышлениям, который поневоле выводит к продоложению той увлекательной творческой работы, которой автор заниается с таким блеском на двухстах странцах своей книги, а именно проблематизацией современной ситуации в архитектуре и конструированию гипотез, имеющих, быть может, действительно эпохальное значение.