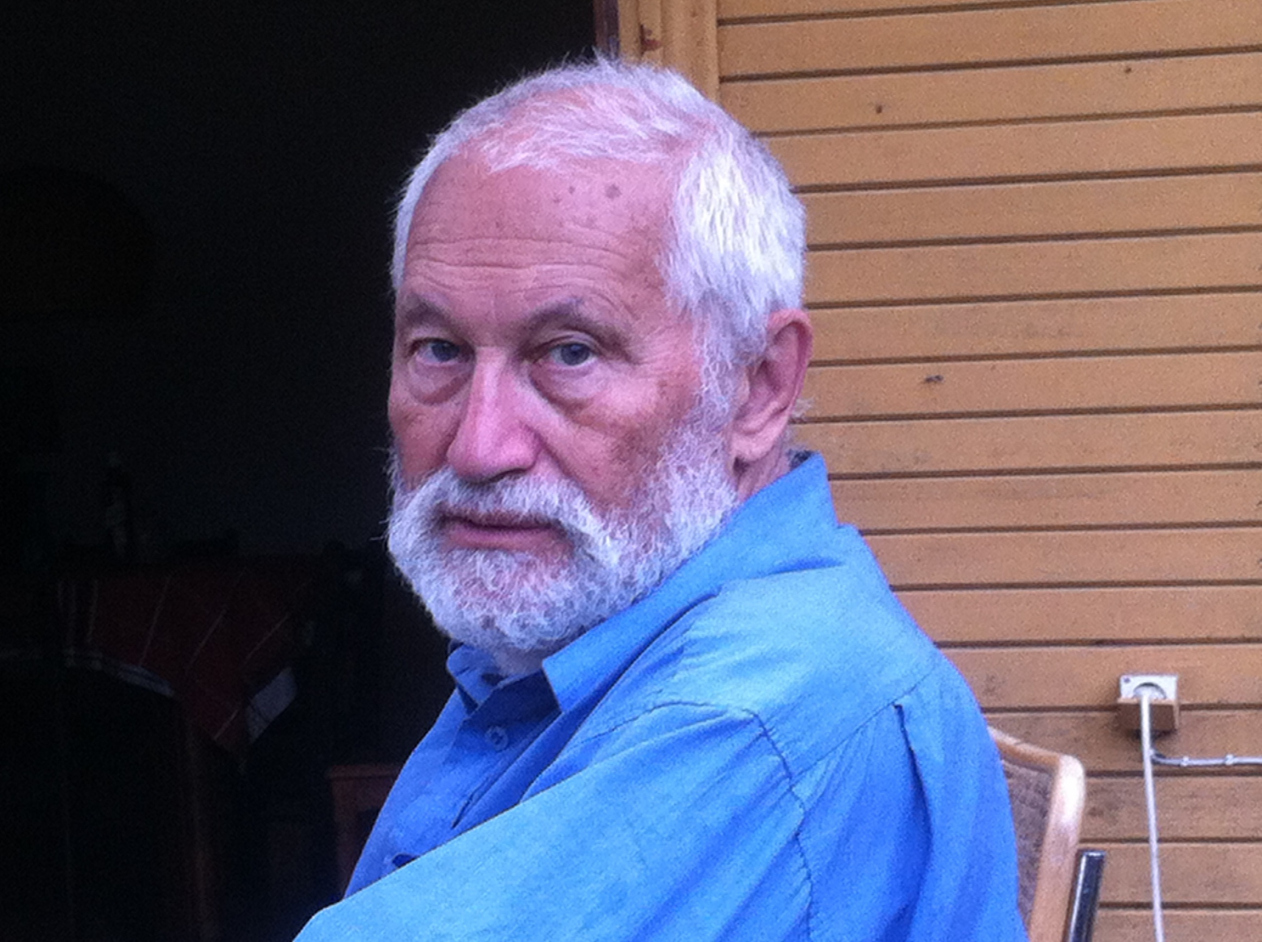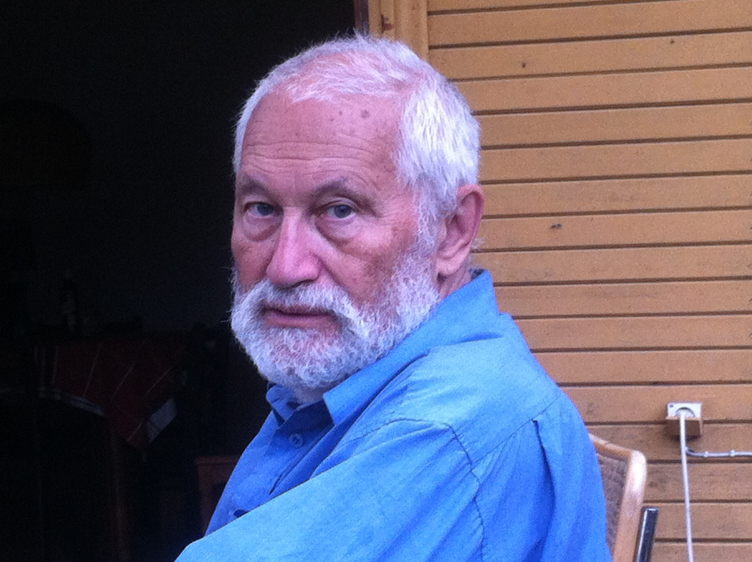К допрофессиональной следует отнести так называемую «народную архитектуру», архитектурный фольклор. Туда же можно отнести и всякого рода самодеятельность, когда здания проектируют и строят любители. Таковых много и в наши дни, как среди «простого народа» – жителей села, плотников и пр., так и среди эрудитов, решивших обойтись без профессиональных услуг зодчего.
Встречаются, конечно, и сложные случаи. Куда, например, отнести Альберти? Профессиональной архитектурной подготовки он не получал, к народной архитектуре его отнести невозможно, но и любителем назвать трудно, хотя в эпоху Возрождения само любительство ценилось довольно высоко: «диллетанти» были не презираемы, а весьма почитаемы. Даже сам Ле Корбюзье был в большой мере самоучкой и архитектурной школы как таковой не окончил. В пору увлечения англичан палладианством таких любителей было немало среди состоятельных землевладельцев.
Что же характерно для народной и любительской архитектуры? Как правило, в былые времена (и часто по сей день) непрофессионал, строивший дом был одновременно его автором – архитектором (неважно, изобретал он или наследовал схему здания), строителем и заказчиком – то есть жильцом и хозяином. Это совмещение функций или ролей важно с той точки зрения, что в таком случае межпрофессиональные или межролевые коммуникации сходились в одном человеке, в одном сознании и интуиции.
Профессиональная архитектура, напротив, осуществляет свою деятельность в системе дистанцированных коммуникаций, где архитектор общается со строителями и с заказчиком, объясняя им возможности и правила построения здания и переводя их затруднения и запросы в свой собственный проектный или критико-теоретический, но профессиональный язык.
Говоря «дистанцированный», я имею в виду под дистанцией прежде всего то, что это дистанция между разными людьми и сознаниями, а порой и культурой, и образованием. Она может быть большей или меньшей, но она всегда присутствует. В самом понятии «дистанции» сочетаются несколько смыслов. Это и физическая дистанция: архитектор, заказчик и строитель – разные люди, живущие в разных местах. Это и культурная дистанция, то есть различие в сумме знаний навыков и способностей. Это, наконец, и социальная дистанция: кто-то из троих занимает высшие по отношению к другим социальные позиции.
Но в дистанциях мы должны различать как индивидуальные, так и социально-культурные моменты. К индивидуальным можно отнести темперамент, одаренность, талант и смекалку, инициативу и многое другое – при чем не всегда, например, архитектор обладает большей интуицией, чем заказчик или строитель. Бывает по-всякому.
Но есть еще социокультурная дистанция в различии подготовки, языков, профессиональных знаний и в идеологической компетентности. И вот тут профессиональная архитектура в последние тысячелетия оказывалась опосредованной определенными социальными институтами. Архитектор выполнял волю религиозной (церковной) иерархии или сословной иерархии (аристократии). И лишь в последние сто с небольшим лет архитектор начинает работать на заказчиков, не обладающих ни идеологическим, ни сословным превосходством, если не трансценденцией. Более того, архитектор в новых условиях понимает себя и свою роль часто как выше стоящую в системе социально-культурных институтов, чем заказчик (торговец, банкир) или потребитель (рабочие и служащие, жители поселений).
Социальное положение проектировщика теперь отчасти независимо от религии и сословных иерархий, а отчасти и превосходит институты других рангов, что позволяет архитектору поучать своих заказчиков – как им нужно строить свои здания и как вообще организовать свой быт и деятельность.
Архитектор попадает в мнимо возвышенный разряд учителей жизни.
Все это мы хорошо знаем по многочисленным программам и манифестам 20-х годов. Потом, когда началось массовое городское строительство, не обеспеченное опытом городской жизни, как утопающий за соломинку, сами архитекторы начали хвататься за социологию. Но если социология и существует (в чем можно сомневаться), то скорее всего как наука, И социолог – ученый, а не учитель. Он исследует жизнь, а не учит жизни.
Учат жизни пророки и вселенские соборы. Там же, где общество сбросило с себя груз религиозных предрассудков и установила новые предрассудки плановой партийной власти, учившей как строить «новую жизнь» и «новый мир», разрушив «старый мир» до основания. Те, кто склонен усматривать архитектурную парадигматику в науках, мог бы увидеть ее и в идеологических конструкциях новой партийной власти. Но от того, что эта власть и ее идеология пользовались такими «основательными» категориями как «фундамент» и «надстройка», сооружения, получавшиеся из этой идеологии, получались и непрочными и не слишком полезными, разве что «красивыми», хотя за красотой пришлось обращаться к рабовладельческому опыту Древнего Рима, и буржуазии – Флоренции и Венеции.
«Жизнестроительством» занялись архитекторы, экономисты и идеологические лидеры. Они строили жизнь на основе нового социального строя и новой социальной иерархии, где уже не было патриархов и пап, князей и королей, купцов, миллионеров и миллиардеров, но были министры, члены Политбюро, академики, лауреаты сталинских премий и герои социалистического труда – рационализаторы и инициаторы. Строя новую жизнь, они отвергали гнилую культуру капиталистических стран, но охотно перенимали из них все передовое, хотя объяснить, каким образом это «передовое» рождалось в условиях все более глубокого кризиса капитализма, не смогли.
Общий вектор надежд жизнестроительства указывал в XX веке, однако, не только на партийную или капиталистическую элиту, но и на науку. Однако научной дисциплины, которая бы учила жизни и давала образцы таковой, не было ни в СССР, ни в Америке, и не существует до сих пор, (химерическое образование под именем «научный коммунизм» ничуть не лучше какого-нибудь «научного капитализма»), но архитектура волею судеб оказалась втянута в то самое святое место, которое, как известно, пусто не бывает. Это незаметное изменение функций сопровождалось тем, что реальную школу жизни в СССР взяла на себя партийная номенклатура, а архитектор выполнял две функции – проводил решения этой номенклатуры в жизнь, (руководствуясь «передовым» опытом Древней Эллады и Рима или тех же США), а потом уже отвечал за ошибки этой партийной власти, как если бы действовал по собственной воле.
Можно было бы долго и в деталях описывать перипетии этой парадоксальной эпохи жизнестроительства, которая теперь стала историей, но суть дела ясна. Парадигматика архитектурной воли опиралась в прошлые эпохи на трансцендентную идеологию и волю социальной и сословной иерархии, и с помощью этой воли и идеологии, творческая сила которой оказалась потрясающей, были созданы величайшие шедевры мировой архитектуры. Конечно, архитекторы предпочли бы относить эти шедевры (пирамиды Гизе, храм Соломона, римский Пантеон, византийские храмы, мусульманские мечети и готические соборы) исключительно своей гениальности, но факт остается фактом, упадок трансцендентной воли сословной аристократии и церковной иерархии лишил архитектуру способности достигать таких же высот. Если, конечно, не считать соответствующими высотами проекты Дворца Советов или лучезарных городов Ле Корбюзье и Леонидова, сооружения вроде Бруклинского моста и Эйфелевой башни.
И если архитектуре суждено найти в будущем новую парадигму, которая обеспечила бы демократическому и свободомыслящему социуму не меньшие успехи, то вопрос о трансцендентной силе, лежащей в ее основе, не может быть исключен из сферы теоретического внимания.
Одними лозунгами, уповающими на всесилие новой власти уже не отделаться, и надеждами на социальные науки и даже философию, тоже.
Сложившееся в какой-то мере случайно (хотя, быть может, эта случайность есть всего лишь следствие нашего непонимания стоящих за ней причин) место архитектуры в развитии мировой культуры и социального порядка в будущем, скорее всего, останется в сфере иных духовных движений и исследовательских практик, включающих и самую архитектурную творческую интуицию. Но какова структура такого социального проектирования, в котором на архитектуру действительно были бы возложены функции смыслового обеспечения новой жизни и строительства Нового мира, мы до сих пор так и не знаем.
Я не думаю, что архитектура в одиночку справилась бы с такой грандиозной задачей, но не вижу в современных социально-культурных институтах ничего, что обеспечило бы ей необходимую поддержку в рамках новых ценностей социального равенства и справедливости. Даже если сохранить веру в эту поддержку за трансцендентным вмешательством Бога, представляющие его волю современные церковные институты к этому уже не способны (о чем свидетельствует не слишком успешный опыт строительства культовых сооружений последних ста лет). Остается вопрос о том, чем и как должна заниматься в этих условия теория архитектуры, волей неволей остающаяся, вопреки своей бесславной судьбе, представительницей профессии.
Не претендуя ни на какие пророчества, позволю себе высказать лишь одно, кажущееся мне достаточно очевидным предположение. Чего бы мы ни ждали от новых пророков в архитектуре, искусстве или политике, непредвзятое и всесторонне исследование самой ситуации в мире и роль архитектуры в этом мире не может не быть предметом ее собственных интересов и интенсивного постижения. Говоря «всестороннее», я имею в виду и признание ее современного кризиса, и необходимость новой парадигматики (прежде всего, нового категориально-понятийного аппарата) и рассмотрение всех тех условий, определяющих судьбу архитектуры, которые в предшествующих архитектурных инициативах оказались за бортом анализа в силу их кажущейся «несовременности», ретроградности, классовой реакционности, предрассудков мистицизма и идеализма, или национальной неполноценности. Всесторонность не ставит никаких заранее выбранных фильтров перед новейшими научно-техническими и идеологическими идеями, но, учитывая опыт прошлого столетия, должна, по-видимому, пытаться предотвратить их одностороннюю идеализацию и переоценку или, напротив, недооценку и исключение из поля зрения.
Опыт прошлого столетия весьма поучителен не только в своих реальных достижениях, но и в не менее очевидных утратах, которые в какой-то мере (разумеется, нет смысла сводить к ним все условия дальнейшего развития) мешали нам понять как природу архитектуры, так и природу мира, в котором архитектура играет столь жизненно необходимую роль. Конечно, возлагая эти исследования, прежде всего, на теорию архитектуры, я отдаю себе отчет в том, что ее успех окажется реальным только при поддержке иных интеллектуальных инициатив и духовных движений.
Вот почему связь теории архитектуры с науками, техникой, философией, искусством и культовыми сферами должна становится все более прозрачной и интенсивной.
Но в третьем тысячелетии все эти сферы духовной жизни оказываются уже в ситуации большего равноправия и ни одна из них не может считать себя исключительной законодательницей, требующей от иных сфер безусловного подчинения ее авторитету.
Распад синтетического состояния архитектуры, совмещавшей в одном лице все роли и все знания, и переход от профессиональной коммуникации Нового времени к какой-то новой парадигме предполагает, что в этой парадигме все участвующие в коммуникации сферы будут обладать равными правами, а дистанции между ними будут регулироваться не односторонним увлечением, а всесторонним согласием.
Александр Раппапорт. Фотография Александра Бродского, 2013.