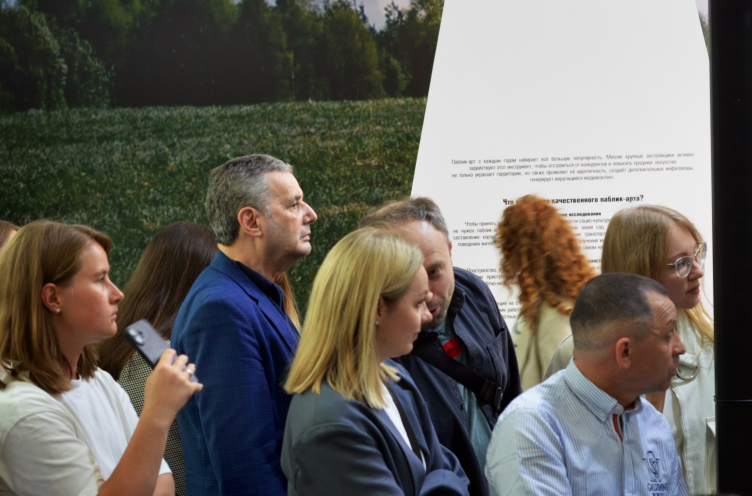Дискуссия была организована АБ «Остоженка» совместно с каналом «Небоскребы».
От события к норме
Сергей Скуратов вспомнил, как в 2004 году для «Донстроя» его бюро спроектировало высотный жилой дом на Мосфильмовской улице. В те годы небоскреб был «вспышкой на горизонте» – редкой доминантой, меняющей панораму города, и вокруг здания на Мосфильмовской шли бурные дискуссии.Дом на Мосфильмовской
Фотография © Sergey Skuratov architects
Сегодня высотки перестали быть событием: это «просто очень высокие дома». Отсюда два пути развития. Первый – городской минимализм с опорой на классические образцы модернизма, где ценятся рациональность и благородная простота – наподобие Центра международной торговли в Нью-Йорке – Seagram Building (1954–1958 – ред.) Мис ван дер Роэ или здания ООН (1947–1952) Оскара Нимейера.
Второй путь – подчеркнутая вертикаль и сверхузкие силуэты, как Capital Towers недалеко от района Сити: три 300-метровые «иглы», взаимодействующие с городским ландшафтом не массой, а линией.
ЖК Capital towers
Фотография © Михаил Розанов / предоставлена Сергей Скуратов ARCHITECTS
При этом, по словам Сергея Скуратова, запрос времени таков, что «мы будем отдаляться от пуристского минимализма, так как обществу нужны экспрессия и локальная идентичность».
АБ «Остоженка»: высотное строительство – это ответ на изменение технологий
Павел Журавлев и Андрей Гнездилов из АБ «Остоженка» предложили смотреть на «высотность» как на относительную категорию: для средневековой Европы 150 метров были чудом, превосходящим пределы воображения. Настоящий небоскреб, по словам Павла Журавлева, требует идеи, «лозунга» – это символ амбиций и успеха. Нынешняя массовая высотная застройка сама по себе не является чем-то экстраординарным, это, скорее, архитектурный ответ на новые технологические возможности.Андрей Гнездилов добавил историческую перспективу: технологический скачок начала XX века – сталь, железобетон, лифты, электричество – естественно заставил города расти вверх: вместо усадеб в Москве начали возводить восьмиэтажные доходные дома.
Так и сегодня: регламенты и ТЭПы подталкивают к вертикали, но городская ткань выигрывает там, где «рядовая» застройка и точечные доминанты образуют осмысленный ансамбль. Как, например, случилось с ЖК «Сидней Сити» – крупным жилым кварталом на первой линии Москвы-реки в районе Шелепихинской набережной. Проект включил много корпусов переменной этажности (до 44 этажей), парк, благоустроенную набережную и дворы без машин.
Каталог трендов: от «высоты тщеславия» к скай-мостам
Филипп Никандров систематизировал мировые тренды высотного строительства. Высота «среднего» небоскреба растет. Если сравнить топ-двадцатку «нулевых» и нынешнего времени, то совокупно двадцать самых высоких домов подросли на 150 метров.Урбанизация не оставляет городам шансов на горизонтальное расширение. При этом в высотной культуре сосуществуют два типа башен: «рабочие» инвест-объекты и здания-символы. Последние обычно увенчаны необитаемой дизайнерской надстройкой – шпилем, мачтой. Она формирует уникальный силуэт и дает ту самую Vanity Height – «высоту тщеславия».
Лахта-центр
Фотография © Филип Григорьев/предоставлено Lakhta Center, PR
Из других тенденций высотного домостроения Филипп Никандров отметил, во-первых, создание сверхтонких башен с одной квартирой на этаже. Они возникают там, где земля экстремально дорога. Отношение высоты к площади этажа может доходить до 1:12, 1:18 и даже 1:20. Для Москвы это пока сценарий будущего, но тренд очевиден.
Также актуальны башни-твистеры, сформированные поворотом или сдвигом по направляющей. Это уже не просто здания, а скульптуры, требующие особых инженерных решений.
Скай-мосты и небесные парки – переход от «стилобата у земли» к «антистилобату на высоте» – также ярко выраженная тенденция высотного строительства. Мосты позволяют распределять трафик по вертикали, добавлять на верхних уровнях коворкинги, спортивные и детские пространства, беговые дорожки, веломаршруты. Это не только про комфорт: мосты могут повысить безопасность (альтернативные пути эвакуации) и экономичность конструкций за счет взаимной работы башен.
Никандров одновременно указал на риски «кластеров» небоскребов: задуманные как завершенные композиции, они нередко размываются последующими девелоперскими инициативами. Там, где весь район застраивает один девелопер, сохранить цельность легче.
Девелоперский ракурс: архитектура как усилитель доходности
Вадим Павлов зафиксировал важный сдвиг: архитектор стал ключевым фактором девелоперского успеха – и на стадии согласований, и на этапе продаж. Ликвидность премиальных объектов определяется прежде всего локацией, но далее все решает архитектура: выразительные фасады, продуманные планировки, качественный ландшафт. «Сильная» архитектура окупается: условные «5 единиц», вложенные в проектирование, возвращаются «30 единицами» в выручке.У высотного строительства есть издержки и риски: надо делать дополнительные технические этажи, ставить сверхскоростные лифты, дефицитные на российском рынке, как и ряд других технологий. Тем не менее при высокой стоимости земли вертикаль часто остается единственным рациональным вариантом. К тому же грамотно спроектированная доминанта капитализирует весь район: эффект «вида на символ» работает десятилетиями.
Вывод: устойчивость и конкурентоспособность обеспечит только союз и синергия девелопера, архитектора и города.
Дискуссия «Все выше, и выше, и выше». Арх Москва 2025
Фотография © Анастасия Федорова / предоставлена АБ «Остоженка»
Градостроительство: от «гороха» к стратегии
Марина Егорова возвратила разговор к управлению развитием. Высота – часть регламентов землепользования; вероятно, жесткие высотные ограничения вернутся. Всплеск высотного строительства в последние годы связан в том числе с ослаблением механизмов публичных обсуждений проектов. Сегодня высотные здания в городе – это россыпь точек, а нужна стратегическая схема высотности, транспорта, инженерии и озеленения. Без такого каркаса город превратится в «каменный мешок», и нынешний хаос справедливо вызывает раздражение горожан.Решение видится в переносе значимых общественных функций «выше уровня взгляда» – на скай-площадки, горизонтальные «улицы» на высоте, многоуровневые связи между башнями. Высотки останутся визитной карточкой, но одновременно создадут комфортную для человека среду.
Вертикальный город – уже завтра
Глава АБ ATRIUM Антон Надточий говорил о сдвиге порога высоты: 100 метров сегодня – уже рутинная жилая застройка, если же речь о небоскребах, то подразумевается высота 300 метров и выше.Главный тренд и идея – строить не набор разрозненных башен, а вертикальный город: общественные пространства на 30–40-м этажах и выше, отдельные лифтовые контуры, разновидности «небесных бульваров» и «парков на крышах», которые соединяют корпуса в систему. У людей появляется новая типология городской жизни – на разных уровнях, с новыми маршрутами и сценариями. Будет развиваться воздушное такси и другой транспорт, и к этому надо быть готовым.
Пример такой жизни – комплекс, спроектированный АБ ATRIUM в Пресненском районе Москвы: там на уровне 8–9 этажа формируется непрерывное «горизонтальное кольцо-парк» – большая эксплуатируемая кровля почти километровой длины, поднятая над низкой застройкой, чтобы открыть виды и дать горожанам удобный маршрут.
Многофункциональный жилой комплекс «Нескучный Home&Spa»
© ATRIUM
Среди текущих проектов ATRIUM – вертикальный город на 600 тыс. жителей (80–90 млн м² жилья) в Абу-Даби. Это не абстрактный vision, а практическая модель многоуровневой жизни: смешение функций, новые сценарии перемещения.
Итог
Еще один разговор о высотках – а они сейчас случаются едва ли не на каждом фестивале – примечателен тем, что собрал очень опытных представителей жанра, практикующих различные подходы к его трансформации.Очевидно, что «просто башни», даже с двором без машин, общественными функциями – уже не спасают. Даже разномасштабный город с сочетанием разной высотности и образности кажется уже выученным Москвой, хотя, надо признать, не всеми ее представителями, – уроком... Раз города растут и уплотняются, очередь за многоуровневым городом, мегаструктурой, позволяющей мегаполису развиваться сложно сказать, в скольких измерениях. За фантазиями семидесятых?