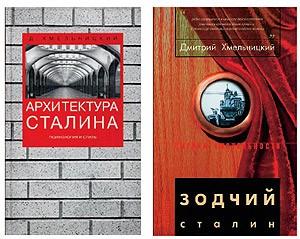Приведенные в заглавии слова – не мои, а Дмитрия Хмельницкого («…патологией была вся сталинская культура»), опубликовавшего в 2007 году две книги – «Архитектура Сталина» и «Зодчий Сталин». Эти книги описывают механизм превращения «разношерстного» архитектурного сообщества в системный элемент государственного управления и инструмент идеологического воздействия. (Содержание и тексты обоих изданий очень близки друг другу, во второй книге добавлены рассказы о деятельности А. Кана и приведены новые сведения о том, как принимались руководством СССР решения по конкурсу на Дворец Советов.) В книгах тщательно и последовательно изучается и описывается процесс изменения сознания советских архитекторов в течение 1930–1950-х годов. Богатейший фактический нарративный и изобразительный материал придает этим книгам вид фундаментальных исследований по истории советской архитектуры.
Если бы автор остался в рамках исторической науки и описывал бы исследуемое им явление человеческой деятельности без идеологических и эмоциональных оценок, то, вероятно, мы имели бы блестящую работу, похожую на работы друзей Д. Хмельницкого – военных историков, скрупулезно изучающих предвоенное развитие Красной Армии и пытающихся раскрыть стратегические замыслы Сталина1.
К сожалению, у Д. Хмельницкого вместо скрупулезности мы встречаемся с небрежностью. В книге «Архитектура Сталина» два раза рассказана одна и та же история про пепельницу и план Театра Красной Армии, но с разными главными героями – Кагановичем и Ворошиловым (с. 200, 261), а в книге «Зодчий Сталин» цитируется «уже упоминавшаяся статья Алексея Толстого «Поиски монументальности» (с. 62). Все бы ничего, да только «уже упоминалась» она в другой книге! Впрочем, на эту чепуху можно было бы и не обращать внимания, если бы небрежность такого рода не переходила в работах Д. Хмельницкого в небрежность исследовательскую. Начнем с самого простого – с элементарной человеческой и профессиональной этики.
Вот как пишет Д. Хмельницкий об И. В. Жолтовском: «Проект Жолтовского безумен…» (с. 88); «Проект Жолтовского так же безумен, как во втором туре, но еще более безвкусен» (с. 114); «Эти проекты абсурдны…» (с. 308); «Проект девяностолетнего Ивана Жолтовского странен, даже абсурден» (с. 339). А вот так о других архитекторах: «Проект Мельникова по-настоящему безумен…» (с. 196); «Проект Весниных совсем безнадежен…» (с. 197); «Варварская идея подчинить архитектуру помпезной статуе…» (с. 204 – это об Иофане и Мухиной); «Проект Гинзбурга настолько безвкусен…» (с. 205); «Этот документ – прекрасный пример мутации профессиональной и общественной психологии серьезного в прошлом архитектора. Дело не только в характерной пошлости архитектурных идей Никольского… Никольский даже на пороге смерти от голода уверен, что фанерная пропаганда (Никольский придумывал в 1942 году временные триумфальные арки из «подручных» материалов. – Д.П.) – это как раз то, что нужно народу, то, чем должен заниматься специалист, то, на что, несомненно, будет спрос и заказы» (с. 233) и так далее.
Но, конечно, чемпионом по частоте применения отрицательных эпитетов является действительный член Академии наук СССР, действительный член Академии архитектуры, лауреат Сталинских премий Алексей Викторович Щусев. Если судить по книгам Д. Хмельницкого, другого такого прохвоста трудно и сыскать: «циник» (с. 90); «Блестящий эпигон любого заказанного стиля…» (с. 91); «хитроумный» (с. 94); «Щусев будет, как мальчишка, лихорадочно менять стили и композиции, пытаясь угадать правильный результат в прищуренных глазах «авторитетного руководства»...» (с. 126); «…откровенный цинизм Щусева…» (с. 155); «…казенных щусевских стилизаций…» (с. 201) и т.д.
Загадочная прелесть архитектурного ремесла, как мне кажется, во многом состоит в том, что старые мастера и зодчие минувшего никогда не воспринимаются архитекторами текущей временной эпохи как археологическая древность, но как коллеги и собратья по цеху. Разговаривая о них, ты разговариваешь о «современниках». Ведь их постройки физически стоят в твоем мире, пусть часто и в изменившемся контексте и обстоятельствах. Они материальны, их можно изучать и рассматривать. Мастерство и качество постоянно тестируется и подтверждается новыми и новыми поколениями архитекторов, хотя они и принадлежат к разным эпохам. Уважение к окружающим тебя людям и к созданным ими произведениям и признание их есть краеугольный камень этических отношений. Я совершенно не склонен считать деятельность А. В. Щусева как руководителя эталоном благородного и достойного поведения, с детских времен слушая многочисленные архитектурные байки про него. И если в каждом архитектурном стиле, в котором он работал, Щусев смог создать интересные вещи, то, по моему мнению, это свидетельствует не о «хитроумии» и «цинизме», а о художественном таланте мастера.
Оценки Д. Хмельницкого однозначны, суждения безапелляционны, приговоры окончательны и обжалованию не подлежат. Он, как «Верховный Судия», распределяет архитекторов сталинского времени по «разрядам» в зависимости от верности неким идеалам конструктивизма и степени подчинения воле «автора всех авторов – Сталина». В какой-то момент чтения книг исследователя вдруг начинаешь осознавать, что стиль, в котором они написаны, и стиль обильно цитируемых публикаций и высказываний сталинских функционеров и архитекторов, обличающих всевозможные «перегибы» и «недоработки», – это одно и то же.
Нет доказательств, есть мнение Д. Хмельницкого. Оно только отличается знаком от приводимых мнений. Конструктивизм – это прогрессивно, хорошо, талантливо, классицизм (эклектика, «ампир») – это плохо, казенно. Все это выглядит как-то несколько примитивно, убого и, простите за выражение, ужасно отдает «совком».
Конструктивизм так же верно служил тоталитарным системам, как и последовавший за ним «сталинский стиль», причем архитекторы-конструктивисты так же радостно соглашались (если не сами их придумывали ) с противоестественными нормативами для жилья, как архитекторы-«сталинисты» – с возможностью проектирования сверхграндиозных ансамблей. И те и другие не обращали особого внимания на людей, что, к сожалению, и сейчас весьма распространено среди архитекторов. Идеология конструктивизма – по сегодняшним меркам – идеология экстремистская, идеология принуждения. Тоталитарная архитектура Сталина подавляла массой и фанфарами, а архитектура конструктивизма – 5 кв. м на человека, общими столовыми и общими женами.
Выводы Д. Хмельницкого не являются следствием проведенного анализа, нет, сам анализ делается в рамках заранее заданной схемы, и если какие-то факты противоречат этой схеме, то о них не упоминается. Характерный пример – работы А. Н. Душкина в метро. Описывая станции метрополитена первой и второй очереди (один абзац на 370 страниц текста!), автор сдержанно одобряет деятельность Ладовского за «пространственную динамику» и Колли – за «корбюзианские мотивы» (?!). Остальные станции описываются так: «Фантазия авторов не выходила за рамки безответственных игр с элементами классицизма и всякого рода стилизаций» (с. 213). Мне всегда казалось, что «Маяковская» и «Кропоткинская» («Дворец Советов») – удивительный пример архитектуры, любимой всеми: и обывателями, за то чувство просветления и легкости, которое навевает архитектура этих станций, и профессионалами, за виртуозную работу с архитектурными формами и светом, которую демонстрирует мастер. Несомненно, эти станции являются архитектурными шедеврами мирового уровня. Не знаю, каким образом фотография станции «Маяковская» появилась на обложке книги «Архитектура Сталина».
Остается совершенно непонятным, почему исследователь исключил метро, рассматривавшееся и в сталинскую эпоху, и сейчас как выдающееся достижение советской архитектуры, из анализа развития архитектурного процесса. У меня сложилось ощущение, что архитектура метрополитена не вызывала у властей никакой реакции, кроме «в целом положительной», и, как следствие, никакого потока критических статей и разгромных речей не следовало, а стало быть, она перестала представлять интерес для Д. Хмельницкого.
И здесь хочется перейти к еще одной проблеме, характерной для обеих книг исследователя. Он написал «письменную» историю архитектуры этого времени. Подробно процитированы многочисленные статьи, выступления, письма и разговоры советских архитекторов, критиков, лиц, «власть предержащих», западных инженеров и архитекторов. Выявлены оттенки идеологических веяний в тот или иной период сталинского правления, рассмотрены разные виды поощрений и наказаний архитекторов. Правда, нельзя не отметить, что сам автор все время удивляется почти полному отсутствию среди архитекторов страха перед строгой критикой, которая в других отраслях художественной деятельности могла привести к весьма неприятным «оргвыводам», и тому, что раскритикованные вчера архитекторы завтра хвалились и получали премии. Когда читаешь архитектурную прессу этого времени, невольно замечаешь, что критика и в 30-х, и в 40-х годах имеет приблизительно одинаковую форму «проработки»: в одной статье пять, семь, десять архитекторов критикуются за свои грехи. Откровенно говоря, это напоминает какие-то «ритуальные камлания», тоскливые, но неизбежные.
Много внимания в книгах уделено «теории» архитектуры. Мне смешно, как серьезно некоторые исследователи относятся к «теориям» архитектуры, особенно тогда, когда «теоретиками» являются сами архитекторы. Если провести эксперимент и показать человеку постройки архитекторов 20-х – начала 30-х годов, то он не сможет отличить работы непримиримых идеологических противников, ведь стилистика одна, и никакого отражения различий теоретических взглядов в реализованных проектах не видно. В архитектуре дистанция между идеологией и формой достаточно велика. Пропорции не могут быть идеологически верными или неверными. Они могут быть только красивыми или нет. Сплошное остекление как прием, или стена, оформленная карнизом, не принадлежат ни к коммунистической, ни к капиталистической идеологии. Дело не в художественных формах. Что такое «социалистический реализм» в архитектуре, не знал никто, о чем постоянно говорит сам автор. Вообще, книги Д. Хмельницкого отчасти напоминают мне попытку написать историю постимпрессионизма в основном по материалам отчета психиатра и хирурга «об оказанию помощи пациенту Ван Гогу В.»
Исследуя историю воздействия власти на архитектуру, он весьма подробно и тщательно описывает процесс протекания «болезни», и здесь, надо отдать ему должное, не возникает никаких вопросов. Но свой анализ он постоянно сопровождает вкусовыми оценками, высказанными, к тому же, в крайне резкой форме. Тем самым узкоспециальную работу по политической истории (в области архитектуры как составной части общественной деятельности) он превращает в написанную широкими мазками историю архитектуры, причем написанную с художественных позиций самого крайнего толка, позиций, не терпящих возражений, позиций, «отменяющих» советскую архитектуру на тридцать лет.
Однако, решив рассмотреть историю смены стилей, Д. Хмельницкий, как мне представляется, был обязан проводить свои сравнения в контексте развития всей мировой архитектуры. Его книги написаны так, как будто в «пространстве культуры» существуют только два «тела»: «Авангард», в основном представленный наивными, но сопротивляющимися советскими архитекторами и переписывающимися с ними некоторыми западными деятелями, и «Эклектика», представляемая «циничными» (вариант: «безумными», «абсурдными», «безнадежными» и т.д.) мастерами старой формации, умело или не очень приспосабливающимися к новым временам, окруженными может быть даже иногда талантливыми, но оболваненными, а в основном карьерными молодыми архитекторами. Бытие их таково: пребывают они в вихрях «ужаса» (с. 112, 139) перед «бездной» (с.113). Иногда в этой вселенной, где-то на заднем плане, проплывают призраки Германской тоталитарной архитектуры и Архитектуры итальянских фашистов.
Однако такая «космогония», как мне кажется, неполна и недостоверна. Художественная жизнь двадцатых и тридцатых годов определялась совсем не конструктивизмом. Для того чтобы догадаться об этом, достаточно было бы включить телевизор и посмотреть, например, сериал о Дживсе и Вустере. Люди этого времени жили в домах и интерьерах ар деко, ездили на машинах и летали на аэропланах, дизайн которых определял ар деко, плавали на пароходах оформленных в ар деко, и так далее и тому подобное. Классическая картинка 1935 года: «Нормандия» вплывает в нью-йоркскую гавань на фоне проглядывающих из дымки силуэтов Крайслер-билдинга и Эмпайр-стейт-билдинга.
Здесь, в рамках журнальной рецензии, нет возможности описывать постройки и объекты ар деко в советском искусстве тридцатых годов. Но как можно обсуждать «пиллонадный» стиль Иофана и происхождение архитектуры Дворца Советов, если не иметь представления об архитектуре ар деко, и, в частности, архитектуре нью-йоркских небоскребов постройки 1926–1932 годов. Естественно удивление Д. Хмельницкого при виде советского павильона на выставке 1937 года в Париже. Но мне почему-то думается, что парижане воспринимали советский павильон как произведение современное и модное. Помимо таких сверхочевидных примеров, как интерьер станции метрополитена «Аэропорт», влияние ар деко можно найти везде: в проектах Голосова (Дворец Советов и Театр им. Мейерхольда), Весниных (Наркомтяжпром и здание ЦК и СНК в Киеве), Мельникова (Наркомтяжпром), в проектах застройки Смоленской и Ростовской набережных и т.д. Даже интерьер кабинета Сталина на ближней даче – и тот в известной степени продукт мебельного дизайна ар деко.
Вообще, при рассмотрении памятников этого периода вдруг начинаешь видеть их глубоко экспериментаторский характер, впрочем, вполне может быть и инспирированный «растерянностью» конструктивистов в новых условиях (можно это назвать и «раскрепощением»), и особую актуальность такого полета архитектурной мысли для экспериментов сегодняшнего дня.
Дмитрий Хмельницкий написал о книге Владимира Паперного «Культура Два»: «У книги Паперного сегодня очень странный статус в русском искусствоведении. О ее существовании хорошо известно, название на слуху, она часто упоминается в прессе как культовая и легендарная. При этом – полное отсутствие достойной критики. Со стороны профессиональных архитектурных историков – полное молчание, разбавляемое крайне редким цитированием. Ни согласия, ни возражений. И уж ни в коем случае – не продолжение исследований».
Он совершенно прав. Пора посмотреть на свою культуру новым, «не революционным» взглядом, пора перестать метаться от одного отрицания к другому, пора заняться созиданием. И в этом смысле работы Д. Хмельницкого являют собой блестящий пример, с одной стороны, глубокой и тщательно проделанной работы, а с другой – бескомпромиссно тенденциозного изложения.
1 В последнее десятилетие благодаря публикациям этих людей (прежде всего В. Суворова) политическая и экономическая история СССР стала выглядеть существенно иначе, чем раньше. Однако вопрос о возможной агрессии нашей страны против Германии является вопросом современного политического устройства мира, и, кроме того, еще живы десятки тысяч людей, для которых война – не глава из учебника истории, а боль, кровь, страдание и скорбь. Поэтому они в своих исследованиях, тщательно, шаг за шагом выверяя и обосновывая свои предположения, подтверждая их системой перекрестных доказательств, постоянно рассматривая вопрос и с точки зрения своих оппонентов для максимальной объективизации доказательств, пытаются описать новую модель развития исторического процесса.