06.06.2011
Владимир Белоголовский //
Архитектурный Вестник, № 2 2011
Здания, которые что-то делают. Интервью с Джошуа Принсом-Рамусом
- Архитектура
- Объект
 Джошуа Принс-Рамус
Фото © Art Streiber for TED
Джошуа Принс-Рамус
Фото © Art Streiber for TEDинформация:
-
что:
Музеум Плаза; Центр LLLibrary -
где:
США. Нью-Йорк -
архитектор:
Рем Колхас ; Джошуа Принс-Рамус -
мастерская:
OMA ; REX
Возможно, ни один другой архитектор не способствовал созданию такого количества успешных бюро, как голландец Рем Кулхаас. Среди прочих этот длинный список включает такие фирмы, как BIG (Дания), Foreign Office Architects (Великобритания), MVRDV (Нидерланды), Büro Ole Scheeren (Великобритания и Китай), REX (США), и Work AC (США).
Всеми этими экспериментальными бюро руководят бывшие партнеры и сотрудники Рема Кулхааса. Я посетил Джошуа Принса-Рамуса, руководителя нью-йоркской компании REX в Сохо на Варик стрит, где за последние годы сложился необычный анклав, включающий десятки прогрессивных архитектурных компаний.
Принс-Рамус рассказал мне о знакомстве с Кулхаасом во время защиты своего дипломного проекта в Гарварде в 1996 году. Затем ему была предложена работа в OMA, в роттердамском офисе архитектора. А в 2000-м – уже как равные партнеры – Принс-Рамус и Кулхаас открыли филиал OMA в Нью-Йорке. Спустя еще шесть лет молодой архитектор выкупил долю у своего бывшего босса и переименовал офис в REX, перебравшись с несколькими десятками сотрудников в соседнее здание.
Джошуа Принс-Рамус родился в Коннектикуте и вырос в Сиэтле. Он получил философское образование в Йеле и архитектурное – в Гарварде. Название компании REX имеет множество значений – приставка RE на английском означает “пере” – переделать, переосмыслить, другими словами – подвергать сом1нению, бросать вызов и критически пересматривать стереотипы. В офисе занято от 40 до 65 человек, в зависимости от загруженности компании заказами. В настоящее время REX работает над проектами Museum Plaza в Луисвилле в Кентукки, крупного жилого массива в Корее, центральной библиотеки и консерватории в Бельгии и над конкурсным проектом в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Владимир Белоголовский: Расскажите, пожалуйста, о своих проектах?
Джошуа Принс-Рамус: Мы пытаемся максимально повысить производительность. Я имею в виду, что в нашей работе мы стремимся сочетать форму и функцию. Форма никогда не теряет зависимости от функции. Форма функциональна, будь то желание открыть определенный визуальный коридор или разместить сложную функцию. Каждый раз мы манипулируем формой, службами и конфигурацией для достижения необходимого баланса, при котором производительность проекта будет максимальной. Я рационалист и всегда бросаю вызов устоям. Устои – это то, что корпоративные фирмы продают заказчикам как рационализм. Но рационализм – это нечто иное. Это означает, что я стараюсь найти лучшее из всех возможных решений, но оно может выглядеть как нечто такое, чего вы никогда ранее не видели.
ВБ: Вы долго работали с Ремом Кулхаасом. Есть ли существенная разница в ваших методах проектирования?
ДПР: OMA (и это главная причина, по которой я хотел там работать) верит в сократический метод, который исповедуем и мы. Однако в их арсенале множество других методов, и они работают по многим направлениям одновременно. К примеру, их телевизионный центр CCTV в Пекине – здание-икона. Не думаю, что нам было бы интересно работать над чем-то подобным. Кулхаасу интересны разные стратегии. Его компания работает гиперрациональным образом, как и мы, но не столь целенаправленно, я бы сказал. Во время нашей работы над библиотекой в Сиэтле этот метод проектирования кристаллизовался, и мне он очень импонирует. Я увидел в нем огромный потенциал. С тех пор ньюйоркский офис сфокусирован именно на таком методе работы, что вызывало определенный дискомфорт для Рема и некоторых других партнеров. Рем верит в хаотическое развитие проектов, а в этом подходе никакого хаоса нет. Поэтому, несмотря на успех в Сиэтле, он не был готов забыть все остальные свои методы и работать лишь таким образом, а мы оказались готовы. Теперь, как мне кажется, мы вывели этот процесс на еще более высокий уровень. Поэтому именно в этом направлении наш метод работы более утонченный, чем у OMA. Но, с другой стороны, мы никоим образом несравнимы с ними по утонченности методов, которыми они оперируют в других направлениях.
ВБ: Объясните мне, чем вас привлекает идея удаления почерка архитектора?
ДПР: Мне кажется, что в таких проектах, как наша библиотека в Сиэтле, театр Wyly в Далласе и Museum Plaza в Луисвилле нам удалось устранить почерк архитектора. Ни об одном из этих проектов вы не можете сказать, что они не являют собой значительные архитектурные высказывания или формы. Но они были достигнуты одержимостью решить поставленные задачи, и архитектурная форма – это один из рычагов решения таких задач. У многих фирм на повестке дня формалистские эстетические предпочтения. Ричард Майер, Фрэнк Гери или Даниэль Либескинд – все они владеют визуальным языком, другими словами обладают стилем. Мы же, поскольку большее значение придаем идее, а не стилю, не имеем узнаваемого визуального языка. Авторство для нас не имеет значения. В чем мы последовательны, так это в прочности и силе идеи. Нам неинтересно вырабатывать свой собственный архитектурный стиль. Это произойдет само собой. К примеру, люди всегда спрашивают меня, почему ваши здания такие коробчатые? Я не знаю…
ВБ: Да потому что ваши здания – предел рациональности! Это же так очевидно. Форма, по-вашему, вторична. Какими же ваши здания могут быть, как не коробчатыми?
ДПР: Вы знаете, сейчас мы работаем над конкурсным проектом, и форма, к которой мы пришли, совершенно не коробчатая. Она суперрациональная и вовсе не напоминает короб.
ВБ: И на нее можно взглянуть?
ДПР: Мне кажется, вы удивитесь, когда ее увидите (приносит маленький макет из голубого пенопласта).
ВБ: Ну как же она не коробчатая? Эта форма четко демонстрирует, как именно она была задумана. Она столь рациональна, что буквально каждый шаг процесса нашел в ней свое отражение – вначале был куб, его верхушку разняли на несколько лепестков. Затем их развели в стороны и наклонили так, чтобы каждый занял наиболее выгодное положение с учетом таких вещей, как внутренняя планировка, участок вокруг и общая форма. И все эти решения принимались коллективно, в результате консенсуса.
ДПР: Да, но эта форма действительно функциональна. Она экономична и отвечает желанию заказчика видеть в ней некое здание-икону. Здесь все собрано воедино. Мы пришли к разным вариантам, которые были способны решить эти задачи одинаково эффективно. Это был тот момент, когда мы сказали: стоп, теперь давайте рассуждать о форме и красоте. Это всегда очень важный момент процесса. И именно этот макет был наиболее убедительным для каждого из нас. Но мы всегда помним, что мы выиграем конкурс, только если наше решение будет продуктивным и уложится в бюджет. Такой процесс не то же самое, как если бы мы сказали: форма подчинена функции, что означает, что сама по себе форма не важна. Для нас же форма имеет большое значение.
ВБ: Позвольте мне задать вам вопрос. Если один из ваших партнеров решится открыть собственный офис, чтобы следовать пропагандируемому вами процессу, чем тогда такая архитектура будет отличаться от вашей с точки зрения формы?
ДПР: Наш процесс напоминает эволюционное древо Дарвина: в любой момент, когда образуется разветвление для продолжения роста, принимается ряд субъективных решений. Поэтому возникают сотни моментов, когда принимаются субъективные эстетические решения. Главное в этом процессе, что этому можно научиться. Для меня это важно потому, что этот процесс будет работать независимо от эстетических предпочтений. Вот почему проекты, основанные на этом методе, не будут выглядеть одинаковыми, а их производительность всегда будет оставаться высокой.
ВБ: С чего начался проект Museum Plaza в Луисвилле? Каким образом он бросает вызов традиционному небоскребу?
ДПР: Наша заказчица обратилась к нам с идеей оживить деловой квартал в Луисвилле. Всего за один доллар она приобрела заброшенный участок на стороне реки за десятиметровым забором, защищающим город от наводнений. Поэтому вы можете себе представить, насколько плох был этот участок. Сперва, она хотела построить кондоминиумы и музей современного искусства. Нашей задачей было придумать такое здание, чтобы оно привлекало достаточно денег, необходимых для поддержки музея. Луисвилл небольшой город, поэтому здание должно было быть многофункциональным. Оно не могло быть полностью офисным или полностью жилым. Сейчас в комплекс входят такие службы, как парковка, офисы, кондоминиумы, отель, университет и музей. Таким образом, это проект, в котором башни нужны, чтобы заработать деньги на музей, а музей не только пользуется этими деньгами, но и привлекает население этих башен. А необычная конфигурация позволяет искусству взаимодействовать с отелем, кондоминиумами, офисами, ресторанами, бассейном, театром и так далее – все это приходит во взаимодействие на уровне парящей плазы.
ВБ: Поэтому музей находится на такой высоте?
ДПР: Причина в том, что на реке Огайо наводнения происходят регулярно по несколько раз в год. Вот почему музей в любом случае следовало приподнять. Первые четыре этажа заняты парковкой и обращены на защитный забор, а формы всех башен наиболее точно отражают требования рынка.
ВБ: А зачем понадобилась эта смешная диагональ, будто поддерживающая весь комплекс подобно велосипедной подножке?
ДПР: Это фуникулер, ведущий к парящей плазе. Он позволяет зданию, которое полностью находится за защитной стеной перешагнуть ее и тем самым получить официальный адрес на престижной Мэйн-стрит. Эта особенность увеличила аренду помещений на 15-20 процентов. Фуникулер обойдется в пять миллионов долларов, и был момент, когда образовалась брешь в бюджете. Первое, что заявил подрядчик: “Я знаю, где достать пять миллионов долларов – давайте откажемся от фуникулера!” Я не проронил ни слова. А девелопер тут же стал орать: “Этот фуникулер принесет мне тридцать миллионов аренды, а ты хочешь от него отказаться? Нет, найди деньги за счет использования более эффективных методов строительства!”
ВБ: Была ли на этом месте лимитирована высота для нового строительства?
ДПР: Да, и мы ее значительно превысили. Нам даже пришлось обращаться в Конгресс США, чтобы добиться изменения коридора полетов местного аэропорта. Девелопер не просил изменить коридор полетов по той причине, что мы собирались построить красивое здание. Он говорил о концепции здания как о практическом решении для города и о создании пяти тысяч рабочих мест. Поэтому вопрос формы здания в дискуссии не имел значения и достаточно было всего нескольких минут для того, чтобы самый весомый человек в американском Сенате поддержал закон об изменении коридора полетов, что и было сделано в течение двух недель.
ВБ: Вернемся к вопросу формообразования. Чтобы прийти к финальной композиции этого проекта, сколько версий вы перепробовали?
ДПР: Около двух тысяч. Уже, после того, как мы знали, сколько и каких башен должно быть в проекте, мы сделали две тысячи быстрых макетов, прежде, чем определились с окончательным вариантом.
ВБ: Следите ли вы за работами конкретных архитекторов? Какие мастера или проекты вам наиболее интересны?
ДПР: Это те архитекторы, чье творчество доставляет мне наибольшее удовольствие. Но их методы работы для нас неприемлемы. К примеру, мне очень импонирует токийское бюро SANAA. Я обожаю их проекты.
ВБ: Почему же вы не работаете, как они, если их архитектура вам так нравится?
ДПР: Потому что у этих архитекторов всего одна тема, и она замечательная. Я имею в виду идею тотального редуцирования. Их здание учебного центра Rolex в Швейцарии – потрясающее, но я бы не смог сделать что-то подобное, потому что лишь 55 процентов интерьера этого центра доступно студентам – во многие места вы физически не сможете попасть. Это просто свело бы меня с ума. Взгляните на их план – сколько там впустую растраченного пространства!
ВБ: Но ведь вам же нравятся их проекты.
ДПР: Их здания изысканны, но мы бы так не смогли. Тем не менее, это здание доставляет мне огромное удовольствие. Мне бы хотелось создать что-то подобное. Но это был бы не я. Мы работаем иначе.
ВБ: Вы сказали, что это здание доставляет вам удовольствие. Получается, что вы любите его сердцем, но отвергаете умом.
ДПР: Для меня это то же самое, что любоваться красивыми произведениями искусства. Если я считаю, что эти произведения красивы, это вовсе не означает, что я был бы профессионально удовлетворен, создавая нечто подобное. Для меня главное – это интеллектуальное стремление создавать действенную архитектуру, здания, которые что-то делают.
ВБ: Это и есть определяющее в вашем творчестве.
ДПР: Да.
После разговора с Принсом-Рамусом я задумался над тем, насколько была убедительна его аргументация, когда он говорил о своем творчестве и как изменился его тон, когда я попросил его рассказать об архитектуре, которая ему нравится больше всего. Это лишь подтверждает, что форма и функция всегда будут оставаться в сложной зависимости и лишь достижение конкретного баланса между ними способно дать истинное удовлетворение мастеру. Одни архитекторы отдают предпочтение функции, другие – форме.
Мне импонирует архитектура бюро REX. Она рациональна, логична и решает реальные задачи инновационно и эффектно. Однако меня огорчает сам факт, что такой коллективный метод проектирования и отказ от персонального почерка архитектора никогда не приведет к рождению таких выдающихся шедевров, как капелла в Роншане Ле Корбюзье, Сиднейская опера Утсона или учебный центр Rolex бюро SANAA. Эти произведения доставляют нам удовольствие не потому, что они функционируют определенным образом, а потому, что они обладают подсознательной и пронзительной красотой. Не это ли важнее всего?
Комментарии Принс-Рамус рассказал мне о знакомстве с Кулхаасом во время защиты своего дипломного проекта в Гарварде в 1996 году. Затем ему была предложена работа в OMA, в роттердамском офисе архитектора. А в 2000-м – уже как равные партнеры – Принс-Рамус и Кулхаас открыли филиал OMA в Нью-Йорке. Спустя еще шесть лет молодой архитектор выкупил долю у своего бывшего босса и переименовал офис в REX, перебравшись с несколькими десятками сотрудников в соседнее здание.
Джошуа Принс-Рамус родился в Коннектикуте и вырос в Сиэтле. Он получил философское образование в Йеле и архитектурное – в Гарварде. Название компании REX имеет множество значений – приставка RE на английском означает “пере” – переделать, переосмыслить, другими словами – подвергать сом1нению, бросать вызов и критически пересматривать стереотипы. В офисе занято от 40 до 65 человек, в зависимости от загруженности компании заказами. В настоящее время REX работает над проектами Museum Plaza в Луисвилле в Кентукки, крупного жилого массива в Корее, центральной библиотеки и консерватории в Бельгии и над конкурсным проектом в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Владимир Белоголовский: Расскажите, пожалуйста, о своих проектах?
Джошуа Принс-Рамус: Мы пытаемся максимально повысить производительность. Я имею в виду, что в нашей работе мы стремимся сочетать форму и функцию. Форма никогда не теряет зависимости от функции. Форма функциональна, будь то желание открыть определенный визуальный коридор или разместить сложную функцию. Каждый раз мы манипулируем формой, службами и конфигурацией для достижения необходимого баланса, при котором производительность проекта будет максимальной. Я рационалист и всегда бросаю вызов устоям. Устои – это то, что корпоративные фирмы продают заказчикам как рационализм. Но рационализм – это нечто иное. Это означает, что я стараюсь найти лучшее из всех возможных решений, но оно может выглядеть как нечто такое, чего вы никогда ранее не видели.
ВБ: Вы долго работали с Ремом Кулхаасом. Есть ли существенная разница в ваших методах проектирования?
ДПР: OMA (и это главная причина, по которой я хотел там работать) верит в сократический метод, который исповедуем и мы. Однако в их арсенале множество других методов, и они работают по многим направлениям одновременно. К примеру, их телевизионный центр CCTV в Пекине – здание-икона. Не думаю, что нам было бы интересно работать над чем-то подобным. Кулхаасу интересны разные стратегии. Его компания работает гиперрациональным образом, как и мы, но не столь целенаправленно, я бы сказал. Во время нашей работы над библиотекой в Сиэтле этот метод проектирования кристаллизовался, и мне он очень импонирует. Я увидел в нем огромный потенциал. С тех пор ньюйоркский офис сфокусирован именно на таком методе работы, что вызывало определенный дискомфорт для Рема и некоторых других партнеров. Рем верит в хаотическое развитие проектов, а в этом подходе никакого хаоса нет. Поэтому, несмотря на успех в Сиэтле, он не был готов забыть все остальные свои методы и работать лишь таким образом, а мы оказались готовы. Теперь, как мне кажется, мы вывели этот процесс на еще более высокий уровень. Поэтому именно в этом направлении наш метод работы более утонченный, чем у OMA. Но, с другой стороны, мы никоим образом несравнимы с ними по утонченности методов, которыми они оперируют в других направлениях.
ВБ: Объясните мне, чем вас привлекает идея удаления почерка архитектора?
ДПР: Мне кажется, что в таких проектах, как наша библиотека в Сиэтле, театр Wyly в Далласе и Museum Plaza в Луисвилле нам удалось устранить почерк архитектора. Ни об одном из этих проектов вы не можете сказать, что они не являют собой значительные архитектурные высказывания или формы. Но они были достигнуты одержимостью решить поставленные задачи, и архитектурная форма – это один из рычагов решения таких задач. У многих фирм на повестке дня формалистские эстетические предпочтения. Ричард Майер, Фрэнк Гери или Даниэль Либескинд – все они владеют визуальным языком, другими словами обладают стилем. Мы же, поскольку большее значение придаем идее, а не стилю, не имеем узнаваемого визуального языка. Авторство для нас не имеет значения. В чем мы последовательны, так это в прочности и силе идеи. Нам неинтересно вырабатывать свой собственный архитектурный стиль. Это произойдет само собой. К примеру, люди всегда спрашивают меня, почему ваши здания такие коробчатые? Я не знаю…
ВБ: Да потому что ваши здания – предел рациональности! Это же так очевидно. Форма, по-вашему, вторична. Какими же ваши здания могут быть, как не коробчатыми?
ДПР: Вы знаете, сейчас мы работаем над конкурсным проектом, и форма, к которой мы пришли, совершенно не коробчатая. Она суперрациональная и вовсе не напоминает короб.
ВБ: И на нее можно взглянуть?
ДПР: Мне кажется, вы удивитесь, когда ее увидите (приносит маленький макет из голубого пенопласта).
ВБ: Ну как же она не коробчатая? Эта форма четко демонстрирует, как именно она была задумана. Она столь рациональна, что буквально каждый шаг процесса нашел в ней свое отражение – вначале был куб, его верхушку разняли на несколько лепестков. Затем их развели в стороны и наклонили так, чтобы каждый занял наиболее выгодное положение с учетом таких вещей, как внутренняя планировка, участок вокруг и общая форма. И все эти решения принимались коллективно, в результате консенсуса.
ДПР: Да, но эта форма действительно функциональна. Она экономична и отвечает желанию заказчика видеть в ней некое здание-икону. Здесь все собрано воедино. Мы пришли к разным вариантам, которые были способны решить эти задачи одинаково эффективно. Это был тот момент, когда мы сказали: стоп, теперь давайте рассуждать о форме и красоте. Это всегда очень важный момент процесса. И именно этот макет был наиболее убедительным для каждого из нас. Но мы всегда помним, что мы выиграем конкурс, только если наше решение будет продуктивным и уложится в бюджет. Такой процесс не то же самое, как если бы мы сказали: форма подчинена функции, что означает, что сама по себе форма не важна. Для нас же форма имеет большое значение.
ВБ: Позвольте мне задать вам вопрос. Если один из ваших партнеров решится открыть собственный офис, чтобы следовать пропагандируемому вами процессу, чем тогда такая архитектура будет отличаться от вашей с точки зрения формы?
ДПР: Наш процесс напоминает эволюционное древо Дарвина: в любой момент, когда образуется разветвление для продолжения роста, принимается ряд субъективных решений. Поэтому возникают сотни моментов, когда принимаются субъективные эстетические решения. Главное в этом процессе, что этому можно научиться. Для меня это важно потому, что этот процесс будет работать независимо от эстетических предпочтений. Вот почему проекты, основанные на этом методе, не будут выглядеть одинаковыми, а их производительность всегда будет оставаться высокой.
ВБ: С чего начался проект Museum Plaza в Луисвилле? Каким образом он бросает вызов традиционному небоскребу?
ДПР: Наша заказчица обратилась к нам с идеей оживить деловой квартал в Луисвилле. Всего за один доллар она приобрела заброшенный участок на стороне реки за десятиметровым забором, защищающим город от наводнений. Поэтому вы можете себе представить, насколько плох был этот участок. Сперва, она хотела построить кондоминиумы и музей современного искусства. Нашей задачей было придумать такое здание, чтобы оно привлекало достаточно денег, необходимых для поддержки музея. Луисвилл небольшой город, поэтому здание должно было быть многофункциональным. Оно не могло быть полностью офисным или полностью жилым. Сейчас в комплекс входят такие службы, как парковка, офисы, кондоминиумы, отель, университет и музей. Таким образом, это проект, в котором башни нужны, чтобы заработать деньги на музей, а музей не только пользуется этими деньгами, но и привлекает население этих башен. А необычная конфигурация позволяет искусству взаимодействовать с отелем, кондоминиумами, офисами, ресторанами, бассейном, театром и так далее – все это приходит во взаимодействие на уровне парящей плазы.
ВБ: Поэтому музей находится на такой высоте?
ДПР: Причина в том, что на реке Огайо наводнения происходят регулярно по несколько раз в год. Вот почему музей в любом случае следовало приподнять. Первые четыре этажа заняты парковкой и обращены на защитный забор, а формы всех башен наиболее точно отражают требования рынка.
ВБ: А зачем понадобилась эта смешная диагональ, будто поддерживающая весь комплекс подобно велосипедной подножке?
ДПР: Это фуникулер, ведущий к парящей плазе. Он позволяет зданию, которое полностью находится за защитной стеной перешагнуть ее и тем самым получить официальный адрес на престижной Мэйн-стрит. Эта особенность увеличила аренду помещений на 15-20 процентов. Фуникулер обойдется в пять миллионов долларов, и был момент, когда образовалась брешь в бюджете. Первое, что заявил подрядчик: “Я знаю, где достать пять миллионов долларов – давайте откажемся от фуникулера!” Я не проронил ни слова. А девелопер тут же стал орать: “Этот фуникулер принесет мне тридцать миллионов аренды, а ты хочешь от него отказаться? Нет, найди деньги за счет использования более эффективных методов строительства!”
ВБ: Была ли на этом месте лимитирована высота для нового строительства?
ДПР: Да, и мы ее значительно превысили. Нам даже пришлось обращаться в Конгресс США, чтобы добиться изменения коридора полетов местного аэропорта. Девелопер не просил изменить коридор полетов по той причине, что мы собирались построить красивое здание. Он говорил о концепции здания как о практическом решении для города и о создании пяти тысяч рабочих мест. Поэтому вопрос формы здания в дискуссии не имел значения и достаточно было всего нескольких минут для того, чтобы самый весомый человек в американском Сенате поддержал закон об изменении коридора полетов, что и было сделано в течение двух недель.
ВБ: Вернемся к вопросу формообразования. Чтобы прийти к финальной композиции этого проекта, сколько версий вы перепробовали?
ДПР: Около двух тысяч. Уже, после того, как мы знали, сколько и каких башен должно быть в проекте, мы сделали две тысячи быстрых макетов, прежде, чем определились с окончательным вариантом.
ВБ: Следите ли вы за работами конкретных архитекторов? Какие мастера или проекты вам наиболее интересны?
ДПР: Это те архитекторы, чье творчество доставляет мне наибольшее удовольствие. Но их методы работы для нас неприемлемы. К примеру, мне очень импонирует токийское бюро SANAA. Я обожаю их проекты.
ВБ: Почему же вы не работаете, как они, если их архитектура вам так нравится?
ДПР: Потому что у этих архитекторов всего одна тема, и она замечательная. Я имею в виду идею тотального редуцирования. Их здание учебного центра Rolex в Швейцарии – потрясающее, но я бы не смог сделать что-то подобное, потому что лишь 55 процентов интерьера этого центра доступно студентам – во многие места вы физически не сможете попасть. Это просто свело бы меня с ума. Взгляните на их план – сколько там впустую растраченного пространства!
ВБ: Но ведь вам же нравятся их проекты.
ДПР: Их здания изысканны, но мы бы так не смогли. Тем не менее, это здание доставляет мне огромное удовольствие. Мне бы хотелось создать что-то подобное. Но это был бы не я. Мы работаем иначе.
ВБ: Вы сказали, что это здание доставляет вам удовольствие. Получается, что вы любите его сердцем, но отвергаете умом.
ДПР: Для меня это то же самое, что любоваться красивыми произведениями искусства. Если я считаю, что эти произведения красивы, это вовсе не означает, что я был бы профессионально удовлетворен, создавая нечто подобное. Для меня главное – это интеллектуальное стремление создавать действенную архитектуру, здания, которые что-то делают.
ВБ: Это и есть определяющее в вашем творчестве.
ДПР: Да.
После разговора с Принсом-Рамусом я задумался над тем, насколько была убедительна его аргументация, когда он говорил о своем творчестве и как изменился его тон, когда я попросил его рассказать об архитектуре, которая ему нравится больше всего. Это лишь подтверждает, что форма и функция всегда будут оставаться в сложной зависимости и лишь достижение конкретного баланса между ними способно дать истинное удовлетворение мастеру. Одни архитекторы отдают предпочтение функции, другие – форме.
Мне импонирует архитектура бюро REX. Она рациональна, логична и решает реальные задачи инновационно и эффектно. Однако меня огорчает сам факт, что такой коллективный метод проектирования и отказ от персонального почерка архитектора никогда не приведет к рождению таких выдающихся шедевров, как капелла в Роншане Ле Корбюзье, Сиднейская опера Утсона или учебный центр Rolex бюро SANAA. Эти произведения доставляют нам удовольствие не потому, что они функционируют определенным образом, а потому, что они обладают подсознательной и пронзительной красотой. Не это ли важнее всего?
Museum Plaza, Луисвилл, Кентукки, США Макет музея на уровне плазы Фото © Luxigon
Museum Plaza, Луисвилл, Кентукки, США Визуализация © Luxigon
Museum Plaza, Луисвилл, Кентукки, США Визуализация © Luxigon
Museum Plaza, Луисвилл, Кентукки, США Схема служб © Art Streiber
Museum Plaza, Луисвилл, Кентукки, США Макет музея на уровне плазы Фото © Luxigon
Джошуа Принс-Рамус Фото © Art Streiber for TED
Museum Plaza, Луисвилл, Кентукки, США Визуализация © Luxigon
Museum Plaza, Луисвилл, Кентукки, США Визуализация © Luxigon
Museum Plaza, Луисвилл, Кентукки, США Схема служб © Art Streiber

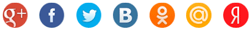 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments








