27.01.2001
Григорий Ревзин //
Полит.ру, 27.01.2001
Сталинизм как гостиница гения. Выставка Андрея Бурова в Музее архитектуры
- Наследие
- Репортаж
- выставка
Дизайн выставки парадоксален. Буровские проекты висят на стенах, а буровские постройки, заново отснятые - на прозрачных плексигласовых листах, подвешенных в воздухе поперек зала. Так что чертежи кажутся куда более укорененными и материальными, чем здания, но поскольку они все же чертежи, то есть нечто довольно эфемерное, то сама укорененность Бурова, реальность его архитектуры оказывается поставленной под вопрос.
Самый материальный предмет - полупрозрачный экран, на котором демонстрируется фильм Сергея Эйзенштейна "Старое и новое", к которому Буров создавал все декорации. Движение стертых кадров на колышущемся экране - как бы камертон той материальности, которая осталась от Бурова.
По большому счету, Буров как архитектор не состоялся. Два дома на Полянке, один - на Ленинградском проспекте, дом на Горького, фасад Союза архитекторов - это все. Для архитектора с известностью и масштабом личности Бурова - это очень мало.
Причем неясно, почему. В память Сталинградской битвы он предложил поставить гигантский зиккурат, вещь совершенно подавляющую и масштабом и смыслом. Почему вместо нее стоит монумент Вучетича, который подавляет ничуть не меньше и не лучше? Вот проект Дома народного творчества с гигантской фигурой товарища Сталина al fresco на фасаде - среди десятков других клубов почему не построили? Трудно назвать в сталинской архитектуре мастера, который так искренне хотел бы совпасть с эпохой, но почему-то скользил мимо.
И не только мимо этой эпохи. Во время войны, в 1943-44 году он написал свою знаменитую книгу "Об архитектуре", где страстно звал к новым индустриальным методам строительства. Ее издали лишь в 1958 году, и для архитекторов она стала своего рода манифестом отказа от классицизма и выхода к новым горизонтам - манифестом, завершившимся пятиэтажкой. Но самого его в хрущевскую архитектуру просто не впустили, он бросил архитектуру и занялся изучением облучения как способа борьбы с раком. В 57 лет - возраст для архитектора самый продуктивный - он умер.
Его книга принадлежит к числу лучших страниц русской архитектурной прозы. Он много ездил, и его эссе о Греции, Италии, Сирии читаются куда интереснее, чем какой-нибудь "Гений места". Но, пожалуй, самое интересное для понимания его творчества - американские впечатления.
На протяжении двух страниц он с поразительной тщательностью описывает гостиницу, в которой останавливался. Кровати, в которых для того, чтобы зажечь свет, не надо вставать - шнурок висит над тобой. Умывальник с поразительными блестящими кранами. Душ - вообще на два абзаца описание. Притом, судя по тексту, это не самая лучшая гостиница - там один душ на два номера. И Бурова особенно восхитило, что в этот душ ведут две двери, и обе открываются наружу, и обе друг напротив друга, а когда ты входишь, то просто стягиваешь двери цепочкой, идущей от одной к другой, и сосед не может войти. Классно придумано.
И - особенно - служба сервиса. Ботинки оставил за дверью - почистили. Рубашку постирали. Костюм повесил внутрь двери, которая сделана как шкаф, а утром открываешь этот шкаф, а там тот же костюм, только вычищенный и отутюженный. Вернувшись в Москву, он построил дом на Ленинградском проспекте (№27), где внизу запроектировал столовую, прачечную, химчистку, магазин и детский сад. Чтобы жильцы могли жить, как в Америке. Это, по его мнению, давало большую экономию времени и площади: кухня не нужна, ешь в столовой, одежда всегда чистая, дети в детском саду - благодать.
Он горько и иронично описывает судьбу этого дома. Местные власти на месте столовой сделали парикмахерскую на 50 мест, а вместо детского сада - вытрезвитель. При всем желании жильцы дома не могли так часто надираться и так быстро отращивать волосы, чтобы заполнять эти учреждения. Еще там сделали конскую аптеку, потому что рядом ипподром. А среди жильцов было очень мало конников. Словом, архитектору поломали весь замысел.
Он так пишет, что сначала страстно переживаешь за него и негодуешь на головотяпов-хозяйственников. И только потом начинаешь размышлять. Ну хорошо, въехали в дом молодые половозрелые пары, нарожали детей, заполнили детский сад. Что делать через пять лет? Рожать по второму? Потом по третьему? Но так не может продолжаться вечно. А магазин? Один раз ты в него сходил, второй - ну ведь точно захочется тебе еще в какой-нибудь магазин заглянуть. А у них план по томатному соку. А ты купил этот томатный сок в другом магазине. Кошмар. Надо сказать, и с химчисткой сложности. Если нет риска, что ты сбежишь в другую химчистку, твоя приемщица непременно тебе скажет через год: "Сколько можно ваши портки чистить? Ходят в какой-то рванине, а туда же, в химчистку лезут". И ты расстроишься.
Это - не экскурс о том, что идея дома на полном обслуживании входит в клинч с правилами конкуренции. Это слишком известно, чтобы об этом писать - такие дома не прижились ни в СССР, ни на Западе. Прелесть в том, что Буров, побывав в Америке и принеся сюда американский опыт, не заметил разницы между домом и гостиницей. Это в гостинице может работать одна и та же химчистка с прачечной - потому что жильцы меняются. В доме не работает.
Он был очень - исключительно - умным человеком. И то, что разница между гостиницей и домом как-то не бросилась ему в глаза - фантастически показательно. Это свидетельствует о совершенно неожиданном переживании образа дома. Я бы сказал - о нерефлексируемой, въевшейся в сознание до автоматизма бездомности.
Это, в принципе, очень характерный для ХХ века опыт. И советский, где твой дом - в сущности предоставленный государством на долгий срок гостиничный номер, и западный, где ты меняешь за жизнь десятки квартир и никогда не умираешь в той же комнате, куда тебя принесли из роддома. Но обычно некоторый инстинкт домостроительства заставляет тебя не обращать внимания на эту домашнюю неукорененность, и ты свое временное помещение воспринимаешь так, будто живешь и будешь жить здесь неопределенно долго. Только некоторые экстравагантные персонажи, вроде Набокова, выводят эту свою внутреннюю бездомность наружу, годами живя в швейцарской гостинице.
Буров не то чтобы вывел эту антидомовитость на поверхность, но проговорился здесь о глубинной структуре своего миропонимания. Архитектор, начинавший как авангардист 20-х, он считал, что архитектор проектирует не здание, но жизнь, всю жизнь, весь бытийный поток. Его дом на Ленинградском был, собственно, помесью американского отеля и советского дома-коммуны. Но если ты проектируешь весь бытийный поток, значит ты сам в нем никак не укоренен. Ты как-то вне его.
Авангардистам было легче - ты вне этого потока, но связан с ним в качестве автора. Жизнь как твое произведение, собственно, и есть твоя укорененность. Но для архитекторов эпохи товарища Сталина было в достаточной мере ясно, что автором этого потока являются не они, а кто-то другой. Они вообще-то знали, кто. Архитектор оказывался как бы и ни при чем. Ты никак не связан с потоком бытия, поскольку ты его проектируешь. Но ты и не являешься его автором, автор - совсем иной персонаж. Ты - посторонний.
Буров избрал свою стратегию преодоления этой посторонности. Он считал необходимым максимально четко, ясно показать действия автора. Если угодно, подобно формалистам, "остранить прием", показать, как это делается.
Скажем, тот же Дом народного творчества. Гигантский Сталин, а к нему - шествуют ряды мелких советских граждан. С кем другим можно сомневаться, с Буровым - нельзя: он совершенно сознательно использовал композиции шествия к Христу в римских и равеннских раннехристианских храмовых декорациях. Он хотел создать новый канон, демонстрирующий, что единственным источником и единственной целью свободного творчества народных масс является богоподобная фигура вождя. Он мыслил правильно. Но слишком откровенно.
Или его Дом архитекторов. Гигантская, очень тонкая по пропорциям и по чувству материала триумфальная арка, странным образом соединяющая в себе римское величие с невесомостью палаццо Дожей в Венеции. Эту вещь он описал в своей книге. Он проанализировал ситуацию, при которой дом должен был выражать новую эпоху в советской архитектуре, но при этом располагаться в реконструированном старом здании, и понял - это театр. Отсюда решение - создать эффектную декорацию, которая читалась бы как нечто совершенно отдельное от того, что за ней. То есть продемонстрировать театральность фасада. То есть получилось, что сталинская архитектура символически - это театр, декорация, за которой таится нечто, не имеющее к ней отношения.
Тем самым, стремясь максимально укорениться в сталинской эпохе, он постоянно обнажал ее внутренность. Вытаскивая наружу структуру мифа просто для того, чтобы в эту структуру врасти, он остранял миф, показывал, что это именно миф, а не истина и органика. Это монументальное служение, которое приводит к монументальному разоблачению.
Если заставить молиться дурака, то он расшибает лоб, если заставить молиться гения, он расшибает то, чему молится. Есть этическая проблема: как относиться к гениям сталинской эпохи, коль скоро их творчество совпадает с увековечиванием сталинизма? А вот не совпадает - даже когда очень хочет совпасть. Они хотят укорениться в этой эпохе, но не получается. Они проживают в сталинизме, как в гостинице. Все время восхищаются, как все здорово сделано, но чересчур ясно понимают, зачем. И дико тащатся от того, что можно зайти в душ, закрыть на одну цепь две двери разом - и мыться, мыться, мыться...
Комментарии По большому счету, Буров как архитектор не состоялся. Два дома на Полянке, один - на Ленинградском проспекте, дом на Горького, фасад Союза архитекторов - это все. Для архитектора с известностью и масштабом личности Бурова - это очень мало.
Причем неясно, почему. В память Сталинградской битвы он предложил поставить гигантский зиккурат, вещь совершенно подавляющую и масштабом и смыслом. Почему вместо нее стоит монумент Вучетича, который подавляет ничуть не меньше и не лучше? Вот проект Дома народного творчества с гигантской фигурой товарища Сталина al fresco на фасаде - среди десятков других клубов почему не построили? Трудно назвать в сталинской архитектуре мастера, который так искренне хотел бы совпасть с эпохой, но почему-то скользил мимо.
И не только мимо этой эпохи. Во время войны, в 1943-44 году он написал свою знаменитую книгу "Об архитектуре", где страстно звал к новым индустриальным методам строительства. Ее издали лишь в 1958 году, и для архитекторов она стала своего рода манифестом отказа от классицизма и выхода к новым горизонтам - манифестом, завершившимся пятиэтажкой. Но самого его в хрущевскую архитектуру просто не впустили, он бросил архитектуру и занялся изучением облучения как способа борьбы с раком. В 57 лет - возраст для архитектора самый продуктивный - он умер.
Его книга принадлежит к числу лучших страниц русской архитектурной прозы. Он много ездил, и его эссе о Греции, Италии, Сирии читаются куда интереснее, чем какой-нибудь "Гений места". Но, пожалуй, самое интересное для понимания его творчества - американские впечатления.
На протяжении двух страниц он с поразительной тщательностью описывает гостиницу, в которой останавливался. Кровати, в которых для того, чтобы зажечь свет, не надо вставать - шнурок висит над тобой. Умывальник с поразительными блестящими кранами. Душ - вообще на два абзаца описание. Притом, судя по тексту, это не самая лучшая гостиница - там один душ на два номера. И Бурова особенно восхитило, что в этот душ ведут две двери, и обе открываются наружу, и обе друг напротив друга, а когда ты входишь, то просто стягиваешь двери цепочкой, идущей от одной к другой, и сосед не может войти. Классно придумано.
И - особенно - служба сервиса. Ботинки оставил за дверью - почистили. Рубашку постирали. Костюм повесил внутрь двери, которая сделана как шкаф, а утром открываешь этот шкаф, а там тот же костюм, только вычищенный и отутюженный. Вернувшись в Москву, он построил дом на Ленинградском проспекте (№27), где внизу запроектировал столовую, прачечную, химчистку, магазин и детский сад. Чтобы жильцы могли жить, как в Америке. Это, по его мнению, давало большую экономию времени и площади: кухня не нужна, ешь в столовой, одежда всегда чистая, дети в детском саду - благодать.
Он горько и иронично описывает судьбу этого дома. Местные власти на месте столовой сделали парикмахерскую на 50 мест, а вместо детского сада - вытрезвитель. При всем желании жильцы дома не могли так часто надираться и так быстро отращивать волосы, чтобы заполнять эти учреждения. Еще там сделали конскую аптеку, потому что рядом ипподром. А среди жильцов было очень мало конников. Словом, архитектору поломали весь замысел.
Он так пишет, что сначала страстно переживаешь за него и негодуешь на головотяпов-хозяйственников. И только потом начинаешь размышлять. Ну хорошо, въехали в дом молодые половозрелые пары, нарожали детей, заполнили детский сад. Что делать через пять лет? Рожать по второму? Потом по третьему? Но так не может продолжаться вечно. А магазин? Один раз ты в него сходил, второй - ну ведь точно захочется тебе еще в какой-нибудь магазин заглянуть. А у них план по томатному соку. А ты купил этот томатный сок в другом магазине. Кошмар. Надо сказать, и с химчисткой сложности. Если нет риска, что ты сбежишь в другую химчистку, твоя приемщица непременно тебе скажет через год: "Сколько можно ваши портки чистить? Ходят в какой-то рванине, а туда же, в химчистку лезут". И ты расстроишься.
Это - не экскурс о том, что идея дома на полном обслуживании входит в клинч с правилами конкуренции. Это слишком известно, чтобы об этом писать - такие дома не прижились ни в СССР, ни на Западе. Прелесть в том, что Буров, побывав в Америке и принеся сюда американский опыт, не заметил разницы между домом и гостиницей. Это в гостинице может работать одна и та же химчистка с прачечной - потому что жильцы меняются. В доме не работает.
Он был очень - исключительно - умным человеком. И то, что разница между гостиницей и домом как-то не бросилась ему в глаза - фантастически показательно. Это свидетельствует о совершенно неожиданном переживании образа дома. Я бы сказал - о нерефлексируемой, въевшейся в сознание до автоматизма бездомности.
Это, в принципе, очень характерный для ХХ века опыт. И советский, где твой дом - в сущности предоставленный государством на долгий срок гостиничный номер, и западный, где ты меняешь за жизнь десятки квартир и никогда не умираешь в той же комнате, куда тебя принесли из роддома. Но обычно некоторый инстинкт домостроительства заставляет тебя не обращать внимания на эту домашнюю неукорененность, и ты свое временное помещение воспринимаешь так, будто живешь и будешь жить здесь неопределенно долго. Только некоторые экстравагантные персонажи, вроде Набокова, выводят эту свою внутреннюю бездомность наружу, годами живя в швейцарской гостинице.
Буров не то чтобы вывел эту антидомовитость на поверхность, но проговорился здесь о глубинной структуре своего миропонимания. Архитектор, начинавший как авангардист 20-х, он считал, что архитектор проектирует не здание, но жизнь, всю жизнь, весь бытийный поток. Его дом на Ленинградском был, собственно, помесью американского отеля и советского дома-коммуны. Но если ты проектируешь весь бытийный поток, значит ты сам в нем никак не укоренен. Ты как-то вне его.
Авангардистам было легче - ты вне этого потока, но связан с ним в качестве автора. Жизнь как твое произведение, собственно, и есть твоя укорененность. Но для архитекторов эпохи товарища Сталина было в достаточной мере ясно, что автором этого потока являются не они, а кто-то другой. Они вообще-то знали, кто. Архитектор оказывался как бы и ни при чем. Ты никак не связан с потоком бытия, поскольку ты его проектируешь. Но ты и не являешься его автором, автор - совсем иной персонаж. Ты - посторонний.
Буров избрал свою стратегию преодоления этой посторонности. Он считал необходимым максимально четко, ясно показать действия автора. Если угодно, подобно формалистам, "остранить прием", показать, как это делается.
Скажем, тот же Дом народного творчества. Гигантский Сталин, а к нему - шествуют ряды мелких советских граждан. С кем другим можно сомневаться, с Буровым - нельзя: он совершенно сознательно использовал композиции шествия к Христу в римских и равеннских раннехристианских храмовых декорациях. Он хотел создать новый канон, демонстрирующий, что единственным источником и единственной целью свободного творчества народных масс является богоподобная фигура вождя. Он мыслил правильно. Но слишком откровенно.
Или его Дом архитекторов. Гигантская, очень тонкая по пропорциям и по чувству материала триумфальная арка, странным образом соединяющая в себе римское величие с невесомостью палаццо Дожей в Венеции. Эту вещь он описал в своей книге. Он проанализировал ситуацию, при которой дом должен был выражать новую эпоху в советской архитектуре, но при этом располагаться в реконструированном старом здании, и понял - это театр. Отсюда решение - создать эффектную декорацию, которая читалась бы как нечто совершенно отдельное от того, что за ней. То есть продемонстрировать театральность фасада. То есть получилось, что сталинская архитектура символически - это театр, декорация, за которой таится нечто, не имеющее к ней отношения.
Тем самым, стремясь максимально укорениться в сталинской эпохе, он постоянно обнажал ее внутренность. Вытаскивая наружу структуру мифа просто для того, чтобы в эту структуру врасти, он остранял миф, показывал, что это именно миф, а не истина и органика. Это монументальное служение, которое приводит к монументальному разоблачению.
Если заставить молиться дурака, то он расшибает лоб, если заставить молиться гения, он расшибает то, чему молится. Есть этическая проблема: как относиться к гениям сталинской эпохи, коль скоро их творчество совпадает с увековечиванием сталинизма? А вот не совпадает - даже когда очень хочет совпасть. Они хотят укорениться в этой эпохе, но не получается. Они проживают в сталинизме, как в гостинице. Все время восхищаются, как все здорово сделано, но чересчур ясно понимают, зачем. И дико тащатся от того, что можно зайти в душ, закрыть на одну цепь две двери разом - и мыться, мыться, мыться...

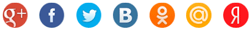 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments