12.05.2000
Григорий Ревзин //
Независимая газета, 12.05.2000, №8
Руины Рая. В этом году на архитектурной биеналле в Венеции будет представлена персональная выставка Михаила Филиппова
- Репортаж
- выставка
информация:
-
где:
Россия. Москва -
архитектор:
Михаил Филиппов
18 июня открывается седьмая Венецианская архитектурная биеннале. Россию на ней будет представлять проект "Руины рая" (генеральный исполнитель - МКК-Холдинг). Основную часть экспозиции составляет персональная выставка архитектора Михаила Филиппова.
Михаил Филиппов родился в 1954 году в Петербурге. Он окончил Петербургскую Академию художеств, и я бы сказал, что это обстоятельство оказалось решающим в его судьбе, если бы не видел других архитекторов, вышедших оттуда же. И его классицизм, и его графика выводимы из Академии, но не как реальности, а как идеи. Быть может, дух архитектуры и витает там по коридорам, но уловил его один Филиппов. Надо полагать, не столько из занятий, сколько из облупившихся стен.
То, что можно было бы назвать идеей Академии, резко отличает Филиппова от остальных "бумажников" - русских архитекторов, выигравших ряд международных концептуальных конкурсов в конце существования советской власти. В 1989 году Филиппов уехал в Финляндию, в 1994-м вернулся и случайно осел в Москве.
Путь этот можно назвать тривиальным - первые номера "бумажников" (Аввакумов, Бродский, Уткин, Буш, Белов) в конце 80-х уезжали за границу, скажем так, с перспективой эмиграции, а в середине 90-х возвращались. Уникальность Филиппова, пожалуй, только в том, что, убедившись в невозможности реализации бумажных замыслов на Западе, он не оставил этих попыток насовсем. Его архитектуру 90-х можно рассматривать как прямое продолжение поисков 80-х - больше ни про кого из "бумажников" этого не скажешь.
В разговорах с Эккерманом Гете с обезоруживающей простотой рассказывает, как рождается замысел - хорошие идеи просто приходят и говорят: "Вот мы". Путь, в котором ощущается стилистика быта 200-летней давности - сегодня, перед тем как зайти, принято звонить. Поэтому хорошую идею стало труднее узнать - течение жизни не подготавливает к ее визиту. Когда Филиппов делал конкурсный проект Острова между Петром и Домом на Набережной и сообщил, что собирается прорыть весь Остров каналами, я пришел в смятение, потому что понял, что он не выиграет конкурс (что и случилось). "А зачем каналы?" - "Ты не понимаешь, каналы - самое важное".
Каналы меня смутили, поскольку в Москве-реке ничего не отражается. Возможно, дело в соотношении высоты зеркала воды и ширины набережной (с мостов или с верхних этажей Дома на Набережной какие-то картинки выловить можно). Но скорее в том, что застройка московских набережных не вполне достойна того, чтобы отражаться в воде, - глаз противится удвоению того, что сомнительно с точки зрения своего существования и в единственном экземпляре.
Кажется, что стояние на воде - основа самостояния архитектуры как художественного объекта, потому что эстетика формы приобретает абсолютное измерение. Ведь, кроме эстетики, в воде не отражается ничего - ни функции, ни конструкции, ни цены квадратного метра. Если архитектура думает о своей красоте, она тянется к водному зеркалу, и это равно распространяется на стремление питерских колоннад к Неве и гонконгских небоскребов к океану.
Отражение, плавающее рядом со зданием в воде, есть физическое воплощение платонической конструкции - здание и его образ, "идея". Как и другие метафизические идеи, эта до такой степени вошла в сердцевину цивилизации, что уже не осознается как философская. Скорее речь идет об бессознательной эстетической гигиене - примерно как о привычке, умываясь, смотреть в зеркало. Только попав в инокультурную среду (скажем, к первобытным племенам), понимаешь, насколько такие привычки проблематичны и связаны с метафизическими основаниями культуры. На обсуждении конкурса Остров Филиппова вызвал яростное сопротивление своим несоответствием московскому духу, и наблюдать лучших в Москве экспертов по ее облику в столь расстроенных чувствах было занимательно. Они были непередаваемо непосредственно возмущены красотой проекта Филиппова. Не как варвары, которым прививают платонизм, а как дети, которых заставляют умываться.
Главный след Петербурга у Филиппова - даже не классика (она не петербургская), но акварель. Его акварельные проекты кажутся не столько проектами, сколько тем зеркалом воды, в котором плещется образ здания. След этого плескания - легкое несовпадение цветового пятна с карандашным контуром.
Акварель - такой способ проектирования, когда здание оценивается с точки зрения его красоты. Здание можно прочесть по чертежу - остроумие плана, функцию, конструкцию и т.д. Непонятно только, красивое ли оно. Акварель - как вода, функция в ней читается плохо. Это эстетика образа, плавающая сама по себе.
Стоит отвернуться от акварелей к проектным листам, и ощущение смиренного любования красотой исчезает. Уходит не красота, но смирение. Обычный строй филипповской подачи - фронт, прорванный перспективой, - воздействует пафосом, который сродни когортам войск, выстроенных на парад.
Когда, как в Острове, парадные листы, рисующие нам общую структуру ансамбля, сопровождаются видами улочек третьей Венеции (считая Петербург второй), отношение акварелей и проектных листов начинает напоминать классический состав музейной экспозиции. Взгляд акварели случаен, взгляд проекта - обязателен, акварель - ракурс и часть, проект - фронт и целое, акварель - конкретное время суток, проект - вне времени. Рискну предположить, что стены академии отозвались и тут: это классическое противопоставление жанра и исторической живописи. Проект, подобно исторической картине, живописует место деяний богов и героев, акварель - место частного лица.
Аналогия, важная не принципом деления, но принципом соединенности. Историческая живопись и жанр в перспективе классики не столько отрицают, сколько предполагают друг друга.
Притягательность исторической живописи в безусловной дисциплине визионерства. "Золотой сон", каковым она является по своему смыслу, отличается от путаного сновидения благородством ясности. Он не требует психоаналитического истолкования - если живопись уподобляет святого столпу, то аналогия с фаллосом здесь затемняет, а не проясняет существо дела. Но качество визионерства при этом не теряется. Жанровая живопись предполагает, что видимый нами "итальянский полдень" художник лицезрел в повседневности, историческая живопись лишена этой презумпции. Не было повседневности, в коей можно было бы лицезреть "Клятву Горациев" - она располагается в высшей реальности. Дело, однако, в том, что без веры в эту высшую, исполненную красоты и достоинства, реальность жанр перестает различать красоту в повседневности. "Итальянский полдень" немедленно превращается в "приезд гувернантки в купеческий дом".
Историческая живопись говорит о том, что высшая реальность богов и героев просто есть. То же касается и архитектуры. Рассматривая проект Острова - полагаю, и рисуя его - просто веришь, что на некой ступени реальности Москва выглядит именно так. Не берусь сказать, где точно эта ступень расположена, но уж во всяком случае выше, чем та, на которой мы стоим повседневно.
Салон "Империал" на Тверской - колоннада в подвале, которая с одной стороны ведет в зеркало - то есть в себя саму, с другой - в ведуту, рисующую колоннаду и лестницу в небо. В каждом интерколумнии открывается ведута же, на ней - опять же колоннада. Центральный мотив бесконечно отражается в стенах - кажется, что это раскопанный фрагмент античного города. Какой-нибудь Смирны, неведомым образом оказавшейся под Москвой.
"Он не может оторваться от бумажной архитектуры. Все эти зеркала, ведуты - ему мало реальности, он не знает, что с ней делать. Это не архитектура, а театр". Из всех попыток убедить меня, что Филиппов, скажем так, не гений, эта, предпринятая к тому же петербуржцем и убежденным классицистом, была самой серьезной. Поскольку в основе ее лежит исключительно точное наблюдение. Филиппову действительно мало реальности, ему необходимо нечто, лежащее за ее границей.
Михаил Филиппов является представителем постмодернизма. Перетолковывая известные классические схемы, он достигает остроты эффекта за счет их нарушения и трансформации. Характерным примером последнего является решение дома в Большом Афанасьевском переулке, в котором на стенах мы обнаруживаем лишь капители, но не видим колонны. Такое решение демонстрирует глубокую иронию в отношении тектоники ордера. Гипертрофированные формы рустованных колонн портика Гута-банка разыгрывают характерный постмодернистский ход иронии в отношении заказчика. Претензии заказчика на собственную представительность остроумно шаржированы - Филиппов доводит представительность до той степени агрессивности, когда портик начинает отпугивать клиента банка. Не менее показателен пример Еврейского музыкального театра, где место храма занимает стеклянная аппаратная, решенная в духе эпатирующего совмещения образа ренессансного (рафаэлевского) идеального храма с коммерческим киоском. Это смешение разных стилистических пластов, соединенное с микшированием сакрального и профанного (храм-киоск) - яркий пример поэтики постмодернистской архитектуры.
Надеюсь, свидетельством ложности сказанного выше служит стилистическая чужеродность фрагмента в этом тексте. Но за его пределами интерпретацию филипповской архитектуры как разновидности постмодернизма невозможно выловить и заключить в глубоко враждебное ей словесное окружение. Единственное, чем он способен защититься, - красота того, что он делает. Я сейчас скажу о структуре защиты - но прежде хочу зафиксировать, что с красотой здесь происходит нечто не совсем обычное. Это оружие против неверного истолкования смысла своей работы. Красота приобретает экзистенциальное измерение.
Структура защиты филипповской классики от истолкования в качестве постмодернисткого эксперимента вот в чем. В постмодернизме форма не имеет эстетического измерения - она ни красива, ни безобразна, она просто вне красоты. Форма в постмодернизме есть знак другой формы. Восклицание в речи может быть более или менее красивым, восклицательный знак в строке - только более или менее заметным.
Знак есть указание на то, что находится за границей реального. Классика указывает туда же. Разница в том, что знаковый путь за границу - это путь человека невыездного. Это отличие обозначения и воплощения. Классический ордер воплощает метафизический ordo, постмодернистский - его обозначает. Причем обозначение ордера колоннами - не более чем следствие недостаточной радикальности архитектора. В основе знаковой парадигмы лежит принцип произвольности связи означаемого и означающего, поэтому ордер можно означивать чем угодно.
За классикой - по крайней мере после двух тысяч лет ее существования в христианском контексте - стоит платонизм. Платоническая пара "идея - ее воплощение" важна здесь вот почему. "Идея" по Платону блага, истинна и прекрасна, ее воплощения - в большей или меньшей степени уклонения от добра, правды и красоты. Уклонения разберем потом, здесь важно, что истина и красота синонимичны. Не знаю, может быть, постмодернистские здания могут показаться красивыми, но если они кажутся истинными, то это непонимание того, как устроен постмодернизм. Его задача - доказать, что "истинной архитектуры" не бывает в принципе.
Отражение - не столько то, что позволяет увидеть красоту формы отдельно от нее. Это как рифмы в стихотворении - они, разумеется, позволяют ощутить на вкус красоту фонетики каждого рифмуемого слова, но более доказывают непреложную правильность постановки данного слова на данное место. По другому ведь уже не скажешь - рифмоваться не будет. Так и отражение доказывает истинность архитектуры. Между прочим, как всем прекрасно известно, лешие, упыри, суккубы, ундины и прочая нечисть не отражаются в зеркале.
Из эссе Бродского: "Человек, проживший в этом городе достаточно долго, склонен связывать добродетель с пропорциональностью. Это старая греческая идея, но, будучи перенесена под северные небеса, она обретает несколько воинствующий характер и заставляет художника, мягко говоря, чрезвычайно заботиться о форме".
"Странно, что ты не понимаешь - классицистический интерьер сегодня то же самое, что салонное искусство. Красота - это синоним пошлости". Это я услышал не от убежденного модерниста, а от увлеченного историка классического искусства. Из-за пессимизма культурного ландшафта разочарованию сегодня доверяешь больше, чем очарованности, посему утверждение кажется справедливым. Впрочем, опыт установления справедливости в ХХ веке таков, что она пахнет опасностью, если от нее можно обезопаситься - то только внимательным продумыванием природы запаха.
Салон прельстительнее любого современного искусства - неважно, собрал ли мастер коллекцию пробирок с водой из разных луж Европы или просто накакал в рояль. Салон прельщал "отцов-основателей" искусства с тенденцией - будь то "Дама с попугаем" Курбе или "Русалки" Крамского. В каковом акте соблазнения и прояснил свою (если не их) природу. Салон (пошлость) - красота, не связанная ни с какой тенденцией. Они прельщались салоном, отдаваясь гению чистой красоты, пока их не требовало обратно к священной жертве зазевавшееся на время горло собственной песни.
Тенденция же - измерение этическое. Архаическое сегодня живописание страданий гувернантки в купеческом доме или остроактуальное восхождение по большой нужде на рояль равно не салонны в силу того, что напоминают о природе человека и его предназначении. Процесс развития искусства двух последних столетий в этом смысле - маргинализация красоты. Сегодня она с природой человека полагается не связанной никак. Нет ни одного направления современного искусства, которое, претендуя на статус Grand-Art, числило бы красоту среди своих приоритетов. Этот поход можно обозначить как "этика против эстетики". В этом смысле приходится признать, что современное искусство начинается с критического реализма. Не важно, как критикуется действительность - фигуративно, нефигуративно, с наличием итогового произведения или без оного - важно, что невозможно критиковать действительность и одновременно воспевать ее красоту. Посему тот, чьи помыслы проникнуты этическим императивом, должен считать красоту салоном.
Эта зараза - как советская власть: с этим нельзя согласиться, но об этом нельзя забывать. Красота должна подтверждать свое метафизическое измерение ("пропорциональность добродетели"), чтобы не стать пошлостью.
" - Да это вообще не классика! - кричал упоминавшийся друг-классицист после очередной статьи о Филиппове. - Ты посмотри на его планы! Ты посмотри на его колонны! Ты классику видел когда-нибудь? Ты бы хоть к нам в Питер съездил!".
Планы примечательны. Да и колонны тоже.
Произведения строятся на сильном пространственном эффекте. Возьмем излюбленный - лестницу в небо. Перспектива вытягивает любой тоннель в линию, перед нами две пересекающиеся перспективы, имеющие общую точку входа, но разные - схода. То есть, собственно, два расходящихся из угла параллелепипеда луча, прорезающих прямоугольную сетку комнат и этажей, зрительно один улетает вверх, другой - вниз.
В театральных декорациях позднего ренессанса и барокко можно найти аналоги расходящихся перспектив (но не столь заостренного противохода). Но ближе по пространственному переживанию не барочная декорация (в ней не живут и этажей она не перерезает), но самый натуральный авангард. Эти два расходящихся из одной точки луча легко себе представить как композицию Лисицкого. Да что Лисицкий - вспомним павильон Мельникова на Парижской выставке. И ни один классицистический вестибюль, ни одна ренессансная лестница никогда так не строилась. Скала Реджиа - не в счет, там нет противохода.
Но это вовсе не единственный мотив авангардной структуры в его работах. Возьмем проект кафе "Акрополь" - это круглая базилика, перерезанная пополам зеркалом для того, чтобы круг казался полным. Но круг, рассеченный прямой, - любимая тема абстракции, видимо, в порядке реализации того же чувства, которое заставляло Пикассо рассекать лицо молодой девушки.
А план еврейского театра, эти треугольные дорожки, складывающиеся в недопроявленный (отражающийся в чуть дернутой ветром воде?) магендовид? Ведь это абсолютно структуралистский план! А обнаженные конструкции? Невольно вспоминаешь, что, кажется, ни один уважающий себя модернист не преминул где-нибудь обнажить балку.
Снова Бродский:
"Я не то что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь и день потерян.
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это -
города, человеков, но для начала зелень".
Это редкая по концентрации эссенция модернистского умонастроения. В "за рубашкой в комод полезешь и день потерян" соединяются безнадежное одиночество и бессмысленность существования, "устал за лето" - бред продвижения ведомо куда сквозь механически же меняющиеся сезоны, когда усталость и сумасшествие путаются - вроде устал, вроде сошел с ума. Зелень, укрытая зимой, - метафора понятно чего - смерти, но восклицаешь "поскорей бы все это кончилось" тогда, когда знаешь, что ничего не кончится, будет также тягуче течь, как текло. Поэтому "поскорей бы пришла зима и занесла все это" пронзает прежде всего безнадежностью интонации. Безумие, безнадежность, бессмысленность бытия, одиночество и смерть - что еще нужно для мотивной структуры модернистского шедевра? Разве что секс, ну так он там появляется дальше.
Но одновременно - это же - поражает классичностью формы. В русском стихе шестииктовый дольник является дериватом гекзаметра и звучит столь же по-русски, сколь по-римски, а "человеков" кажется архаизмом едва не молитвенного толка. Цезура руинирует размер, сообщая стиху дополнительную подлинность. Так, будто это римский текст, написанный сразу по-русски и слегка разрушенный от времени ожидания, когда язык, на котором он написан, наконец появится.
Разумеется, это не модернизм, уложенный в гекзаметр, ибо классическая перспектива стиха очевидна. Она задана пушкинской просьбой "не дай мне Бог сойти с ума", но написано это постфактум "смерти Бога". Потому просить уже некого, остается безумие. Классическое безумие, однако, отличается от модернистского тем, что в нем есть классическая ретроспектива.
То уникальное свойство поэтики, о котором я говорю, - классицизация модернизма, соединение авангарда и классики. И того и другого в столь концентрированном виде, что от текстов Бродского то ли устаешь, то ли сходишь с ума.
Ход, который осуществляет Филиппов - скрещение модернизма и классики, - в целом очевиден. И классика, и модернизм - фундаменталистские дискурсы, они исходят из того, что архитектурная форма бывает истинная и ложная. Оказываясь рядом, они естественно полагают истинными себя и ложными друг друга. Никто из них, однако же, не говорит про себя: я - ложная архитектура. Что, собственно, делал постмодернизм. В оппозиции к постмодернизму у классики и модернизма больше сходств, чем различий.
Но случай Филиппова парадоксален в силу отсутствия соразмерного объекта служения. Пиранезианские видения филипповских квартир прочитываются как утопия в интерьере. В России, впрочем, после семидесяти лет хамского ханства частная жизнь и не могла быть ничем иным, кроме утопии, - и оставим эту тему за ее самоочевидностью. Утопия в этом случае не служит никакому идеалу переустройства общества, она становится утопией идеального предметного ряда. По природе своей частная утопия (если речь идет об архитектуре) может быть только утопией эстетической. Отсюда парадоксальность случая Филиппова. Сопряжение модернизма с классикой, о котором я говорил, возможно лишь в эстетической плоскости.
Но это невозможно. Эстетика модернизма есть полное отрицание классической, их нельзя соединить.
Люди стареют в разные стороны своего характера - то же касается "измов". Классики стареют энтропически - форма распадается до физической немощи как синонима духовной мощи - так у позднего Микеланджело или Тинторетто. Траектория старения всех авангардов модернизма задана феноменом "музейного кубизма". Под конец они впадают в старческий эстетизм.
Эренбург писал, что не понимает, как Пикассо может возненавидеть лицо молодой девушки. Оставим в стороне конъюнктурность текста "Люди, годы, жизнь". Каждый, кто имел дело с девушкой, способен, я полагаю, понять, за что можно возненавидеть ее лицо, - в этом смысле зрелый кубизм экзистенциально обоснован. Интереснее кубизм музейный. Лицо взорвано, но во взрыве остается эстетическое измерение. Это не тело, а его останки, но как изысканны их линии! Как удивительно гармонично рифмуется контур рваной раны с линиями груди! Настроение, штампованное образом стандартного героя сериала - серийным убийцей, любующимся фотографиями своих жертв. Разумеется, одно из глубочайших психологических открытий столетия.
Это ХХ-эстетика (если не ХХ-эротика), порожденная ХХ веком. Красота мусора, гниения, распада. Если долго гадить, то под конец находишь в этом известную прелесть. Чувство красоты восстанавливается, хотя и в довольно своеобразном виде. По счастью, лишенном салонной пошлости.
Проекты Филиппова куда гармоничнее, чем реализованные постройки. По некотором размышлении я пришел к уверенности, что дело не в гипсокартоне, швах, деревянных балках, но в чем-то более глубоком. Хай-тековское произведение проигрывает, если фаска, снятая с грани гайки, "слезла" на два микрона - именно постольку, поскольку предметом проектирования и является точность снятия этой фаски. Дело, разумеется, достойнейшее, но проектируется здесь как раз эта гайка, а никакой не ее идеал. Предметом же проектирования у Филиппова является даже не идеал, а его недостижимость в реальности. Проект в сравнении с постройкой знаменует собой первую ступень этой недостижимости.
К неклассичности композиций и планов постройки добавляют переживание поверхности. Если рассматривать его ордер в упор - перед глазами фактура авангардного коллажа. Выщербленные, сколотые его колонны куда как далеки от классического идеала. По этой классике прошлись кайлом, вслед за вопросом о девичьем лице могу спросить - за что он так ненавидит колонны?
Это та же ХХ-эсетика, невероятным вывертом увязанная с классикой. Если можешь переживать эстетические события только так - как истину фрагмента, равной фактуры, трущей твои глаза, - переживи так классику. Разумеется, в классике есть свое место для подобных смысловых ходов - эстетика руины. Но смысловых, а не пластических. То, что Филиппов представляет как руину, на самом деле таковой не является. У руины плавная пластика, коррозия нежно разрушает камень слой за слоем, это тонкая лессировка временем. Та же поверхность, которая нам предъявляется, - это авангардированная руина, здесь работали не лессировками, а ломом.
Но авангардный коллаж - вещь самодостаточная, его случайная структура есть отражение мира, понятого как хаос. Руина - всегда чего-то, за ней стоит некий утраченный порядок Рая.
Все тот же платонизм. Есть идеальная, бесконечно прекрасная и истинная колонна, все же реальные - ее бледные руинированные тени. Это эстетика распада как частный случай классической эстетики. Распад - о да, конечно! Нетленны одни идеи, все остальное - распад и тлен. Но в этом отражении распадающаяся плоть формы становится не столько эпатажем сознания, полагающегося в данный момент нормальным (чем занят любой авангард), сколько утверждением о существовании невыразимо прекрасного за пределами здешней физики.
Примерно также различаются безумие модернистское и классическое - безумие классика есть указание на величие ума, безумный модернист никуда не указывает, это псих в себе. Авангардность в этой ситуации становится странным образованием, которое я бы назвал апофатикой классицизма. Она утверждает красоту классики через указание на ее недостижимость.
А город? Ведь то, что его градостроительные проекты созданы для Москвы, в сущности, парадоксально.
Москва с Петра противостоит классицизации, а в России ХХ века полагается авангардной столицей. Если не в стиле Малевича, то в стиле Малявина, с ни с чем несообразной энергией материальных сгустков, летящих в плясе радиально-кольцевой планировки. Я бы сказал, Филиппову единственному удалось примирить этот пляс с ордером. Но как! - через распад классики.
Проект оформления Пречистенской набережной. Круглящиеся пиранезианские катакомбы - субструкции гигантского разрушившегося храма, идеально правильные концентрические круги, на которых выросло бог знает что - хаос. В этом хаосе среди прочего - не то, чтобы совсем маленькая, но церквушка - с трапезной, колокольней и остальным разнобоем вытянутых по оси отдельных объемов, который придает этим сооружениям что-то неповторимо московское в смысле противостояния классической логике идеального храма. Тот храм (естественно, центрический, раз идеальный) утрачен, даже не взорван, но взорван до того, как построен (имея в виду не Тона, а Витберга). Этот - напоминание об этой утрате градостроительного порядка, который никогда и не был обретен.
Человек, предлагающий классическую градостроительную схему в Москве, должен либо снести этот город, либо смириться с глубинной антиклассичностью его структуры. Филиппов эту структуру и делает источником композиции. Это классика не порядка, но хаоса, руины былого порядка. Не закономерности, но случайного проявления утраченной закономерности.
Суть индивидуального художественного языка - это попытка высказать именно себя. В конце концов, что разрушило целостность, откуда распад и хаос? Это обратная сторона свободы.
Свобода - ценность, за которую в принципе можно пожертвовать гармонией и величественностью композиций и поверхностей. Лирическое высказывание не делается гекзаметром, им пишут эпос - классика стирает личность. И, напротив, при всем своем космизме авангард не создал ни одного эпического произведения.
Потому что эпос невозможен в одиночку. Но в одиночку возможны руины эпоса. Филиппов создал свободную индивидуалистическую классику - сидящий в нем авангардный бес не тяготится быть классицистом.
Архитектор, проживший модернизм, но не переживший его, ущербен. Тотальное неприятие авангарда не отменяет авангардного неприятия мира, а его повторяет. Это не арифметика, и минус на минус не дает здесь плюса. Явленный авангардом распад экзистенциально обоснован - в ХХ веке нам представлены такие вершины руинизации, что искусство здесь заметно проигрывает реальности. После того как Бог умер, Рай возможен только как руины.
Комментарии То, что можно было бы назвать идеей Академии, резко отличает Филиппова от остальных "бумажников" - русских архитекторов, выигравших ряд международных концептуальных конкурсов в конце существования советской власти. В 1989 году Филиппов уехал в Финляндию, в 1994-м вернулся и случайно осел в Москве.
Путь этот можно назвать тривиальным - первые номера "бумажников" (Аввакумов, Бродский, Уткин, Буш, Белов) в конце 80-х уезжали за границу, скажем так, с перспективой эмиграции, а в середине 90-х возвращались. Уникальность Филиппова, пожалуй, только в том, что, убедившись в невозможности реализации бумажных замыслов на Западе, он не оставил этих попыток насовсем. Его архитектуру 90-х можно рассматривать как прямое продолжение поисков 80-х - больше ни про кого из "бумажников" этого не скажешь.
В разговорах с Эккерманом Гете с обезоруживающей простотой рассказывает, как рождается замысел - хорошие идеи просто приходят и говорят: "Вот мы". Путь, в котором ощущается стилистика быта 200-летней давности - сегодня, перед тем как зайти, принято звонить. Поэтому хорошую идею стало труднее узнать - течение жизни не подготавливает к ее визиту. Когда Филиппов делал конкурсный проект Острова между Петром и Домом на Набережной и сообщил, что собирается прорыть весь Остров каналами, я пришел в смятение, потому что понял, что он не выиграет конкурс (что и случилось). "А зачем каналы?" - "Ты не понимаешь, каналы - самое важное".
Каналы меня смутили, поскольку в Москве-реке ничего не отражается. Возможно, дело в соотношении высоты зеркала воды и ширины набережной (с мостов или с верхних этажей Дома на Набережной какие-то картинки выловить можно). Но скорее в том, что застройка московских набережных не вполне достойна того, чтобы отражаться в воде, - глаз противится удвоению того, что сомнительно с точки зрения своего существования и в единственном экземпляре.
Кажется, что стояние на воде - основа самостояния архитектуры как художественного объекта, потому что эстетика формы приобретает абсолютное измерение. Ведь, кроме эстетики, в воде не отражается ничего - ни функции, ни конструкции, ни цены квадратного метра. Если архитектура думает о своей красоте, она тянется к водному зеркалу, и это равно распространяется на стремление питерских колоннад к Неве и гонконгских небоскребов к океану.
Отражение, плавающее рядом со зданием в воде, есть физическое воплощение платонической конструкции - здание и его образ, "идея". Как и другие метафизические идеи, эта до такой степени вошла в сердцевину цивилизации, что уже не осознается как философская. Скорее речь идет об бессознательной эстетической гигиене - примерно как о привычке, умываясь, смотреть в зеркало. Только попав в инокультурную среду (скажем, к первобытным племенам), понимаешь, насколько такие привычки проблематичны и связаны с метафизическими основаниями культуры. На обсуждении конкурса Остров Филиппова вызвал яростное сопротивление своим несоответствием московскому духу, и наблюдать лучших в Москве экспертов по ее облику в столь расстроенных чувствах было занимательно. Они были непередаваемо непосредственно возмущены красотой проекта Филиппова. Не как варвары, которым прививают платонизм, а как дети, которых заставляют умываться.
Главный след Петербурга у Филиппова - даже не классика (она не петербургская), но акварель. Его акварельные проекты кажутся не столько проектами, сколько тем зеркалом воды, в котором плещется образ здания. След этого плескания - легкое несовпадение цветового пятна с карандашным контуром.
Акварель - такой способ проектирования, когда здание оценивается с точки зрения его красоты. Здание можно прочесть по чертежу - остроумие плана, функцию, конструкцию и т.д. Непонятно только, красивое ли оно. Акварель - как вода, функция в ней читается плохо. Это эстетика образа, плавающая сама по себе.
Стоит отвернуться от акварелей к проектным листам, и ощущение смиренного любования красотой исчезает. Уходит не красота, но смирение. Обычный строй филипповской подачи - фронт, прорванный перспективой, - воздействует пафосом, который сродни когортам войск, выстроенных на парад.
Когда, как в Острове, парадные листы, рисующие нам общую структуру ансамбля, сопровождаются видами улочек третьей Венеции (считая Петербург второй), отношение акварелей и проектных листов начинает напоминать классический состав музейной экспозиции. Взгляд акварели случаен, взгляд проекта - обязателен, акварель - ракурс и часть, проект - фронт и целое, акварель - конкретное время суток, проект - вне времени. Рискну предположить, что стены академии отозвались и тут: это классическое противопоставление жанра и исторической живописи. Проект, подобно исторической картине, живописует место деяний богов и героев, акварель - место частного лица.
Аналогия, важная не принципом деления, но принципом соединенности. Историческая живопись и жанр в перспективе классики не столько отрицают, сколько предполагают друг друга.
Притягательность исторической живописи в безусловной дисциплине визионерства. "Золотой сон", каковым она является по своему смыслу, отличается от путаного сновидения благородством ясности. Он не требует психоаналитического истолкования - если живопись уподобляет святого столпу, то аналогия с фаллосом здесь затемняет, а не проясняет существо дела. Но качество визионерства при этом не теряется. Жанровая живопись предполагает, что видимый нами "итальянский полдень" художник лицезрел в повседневности, историческая живопись лишена этой презумпции. Не было повседневности, в коей можно было бы лицезреть "Клятву Горациев" - она располагается в высшей реальности. Дело, однако, в том, что без веры в эту высшую, исполненную красоты и достоинства, реальность жанр перестает различать красоту в повседневности. "Итальянский полдень" немедленно превращается в "приезд гувернантки в купеческий дом".
Историческая живопись говорит о том, что высшая реальность богов и героев просто есть. То же касается и архитектуры. Рассматривая проект Острова - полагаю, и рисуя его - просто веришь, что на некой ступени реальности Москва выглядит именно так. Не берусь сказать, где точно эта ступень расположена, но уж во всяком случае выше, чем та, на которой мы стоим повседневно.
Салон "Империал" на Тверской - колоннада в подвале, которая с одной стороны ведет в зеркало - то есть в себя саму, с другой - в ведуту, рисующую колоннаду и лестницу в небо. В каждом интерколумнии открывается ведута же, на ней - опять же колоннада. Центральный мотив бесконечно отражается в стенах - кажется, что это раскопанный фрагмент античного города. Какой-нибудь Смирны, неведомым образом оказавшейся под Москвой.
"Он не может оторваться от бумажной архитектуры. Все эти зеркала, ведуты - ему мало реальности, он не знает, что с ней делать. Это не архитектура, а театр". Из всех попыток убедить меня, что Филиппов, скажем так, не гений, эта, предпринятая к тому же петербуржцем и убежденным классицистом, была самой серьезной. Поскольку в основе ее лежит исключительно точное наблюдение. Филиппову действительно мало реальности, ему необходимо нечто, лежащее за ее границей.
Михаил Филиппов является представителем постмодернизма. Перетолковывая известные классические схемы, он достигает остроты эффекта за счет их нарушения и трансформации. Характерным примером последнего является решение дома в Большом Афанасьевском переулке, в котором на стенах мы обнаруживаем лишь капители, но не видим колонны. Такое решение демонстрирует глубокую иронию в отношении тектоники ордера. Гипертрофированные формы рустованных колонн портика Гута-банка разыгрывают характерный постмодернистский ход иронии в отношении заказчика. Претензии заказчика на собственную представительность остроумно шаржированы - Филиппов доводит представительность до той степени агрессивности, когда портик начинает отпугивать клиента банка. Не менее показателен пример Еврейского музыкального театра, где место храма занимает стеклянная аппаратная, решенная в духе эпатирующего совмещения образа ренессансного (рафаэлевского) идеального храма с коммерческим киоском. Это смешение разных стилистических пластов, соединенное с микшированием сакрального и профанного (храм-киоск) - яркий пример поэтики постмодернистской архитектуры.
Надеюсь, свидетельством ложности сказанного выше служит стилистическая чужеродность фрагмента в этом тексте. Но за его пределами интерпретацию филипповской архитектуры как разновидности постмодернизма невозможно выловить и заключить в глубоко враждебное ей словесное окружение. Единственное, чем он способен защититься, - красота того, что он делает. Я сейчас скажу о структуре защиты - но прежде хочу зафиксировать, что с красотой здесь происходит нечто не совсем обычное. Это оружие против неверного истолкования смысла своей работы. Красота приобретает экзистенциальное измерение.
Структура защиты филипповской классики от истолкования в качестве постмодернисткого эксперимента вот в чем. В постмодернизме форма не имеет эстетического измерения - она ни красива, ни безобразна, она просто вне красоты. Форма в постмодернизме есть знак другой формы. Восклицание в речи может быть более или менее красивым, восклицательный знак в строке - только более или менее заметным.
Знак есть указание на то, что находится за границей реального. Классика указывает туда же. Разница в том, что знаковый путь за границу - это путь человека невыездного. Это отличие обозначения и воплощения. Классический ордер воплощает метафизический ordo, постмодернистский - его обозначает. Причем обозначение ордера колоннами - не более чем следствие недостаточной радикальности архитектора. В основе знаковой парадигмы лежит принцип произвольности связи означаемого и означающего, поэтому ордер можно означивать чем угодно.
За классикой - по крайней мере после двух тысяч лет ее существования в христианском контексте - стоит платонизм. Платоническая пара "идея - ее воплощение" важна здесь вот почему. "Идея" по Платону блага, истинна и прекрасна, ее воплощения - в большей или меньшей степени уклонения от добра, правды и красоты. Уклонения разберем потом, здесь важно, что истина и красота синонимичны. Не знаю, может быть, постмодернистские здания могут показаться красивыми, но если они кажутся истинными, то это непонимание того, как устроен постмодернизм. Его задача - доказать, что "истинной архитектуры" не бывает в принципе.
Отражение - не столько то, что позволяет увидеть красоту формы отдельно от нее. Это как рифмы в стихотворении - они, разумеется, позволяют ощутить на вкус красоту фонетики каждого рифмуемого слова, но более доказывают непреложную правильность постановки данного слова на данное место. По другому ведь уже не скажешь - рифмоваться не будет. Так и отражение доказывает истинность архитектуры. Между прочим, как всем прекрасно известно, лешие, упыри, суккубы, ундины и прочая нечисть не отражаются в зеркале.
Из эссе Бродского: "Человек, проживший в этом городе достаточно долго, склонен связывать добродетель с пропорциональностью. Это старая греческая идея, но, будучи перенесена под северные небеса, она обретает несколько воинствующий характер и заставляет художника, мягко говоря, чрезвычайно заботиться о форме".
"Странно, что ты не понимаешь - классицистический интерьер сегодня то же самое, что салонное искусство. Красота - это синоним пошлости". Это я услышал не от убежденного модерниста, а от увлеченного историка классического искусства. Из-за пессимизма культурного ландшафта разочарованию сегодня доверяешь больше, чем очарованности, посему утверждение кажется справедливым. Впрочем, опыт установления справедливости в ХХ веке таков, что она пахнет опасностью, если от нее можно обезопаситься - то только внимательным продумыванием природы запаха.
Салон прельстительнее любого современного искусства - неважно, собрал ли мастер коллекцию пробирок с водой из разных луж Европы или просто накакал в рояль. Салон прельщал "отцов-основателей" искусства с тенденцией - будь то "Дама с попугаем" Курбе или "Русалки" Крамского. В каковом акте соблазнения и прояснил свою (если не их) природу. Салон (пошлость) - красота, не связанная ни с какой тенденцией. Они прельщались салоном, отдаваясь гению чистой красоты, пока их не требовало обратно к священной жертве зазевавшееся на время горло собственной песни.
Тенденция же - измерение этическое. Архаическое сегодня живописание страданий гувернантки в купеческом доме или остроактуальное восхождение по большой нужде на рояль равно не салонны в силу того, что напоминают о природе человека и его предназначении. Процесс развития искусства двух последних столетий в этом смысле - маргинализация красоты. Сегодня она с природой человека полагается не связанной никак. Нет ни одного направления современного искусства, которое, претендуя на статус Grand-Art, числило бы красоту среди своих приоритетов. Этот поход можно обозначить как "этика против эстетики". В этом смысле приходится признать, что современное искусство начинается с критического реализма. Не важно, как критикуется действительность - фигуративно, нефигуративно, с наличием итогового произведения или без оного - важно, что невозможно критиковать действительность и одновременно воспевать ее красоту. Посему тот, чьи помыслы проникнуты этическим императивом, должен считать красоту салоном.
Эта зараза - как советская власть: с этим нельзя согласиться, но об этом нельзя забывать. Красота должна подтверждать свое метафизическое измерение ("пропорциональность добродетели"), чтобы не стать пошлостью.
" - Да это вообще не классика! - кричал упоминавшийся друг-классицист после очередной статьи о Филиппове. - Ты посмотри на его планы! Ты посмотри на его колонны! Ты классику видел когда-нибудь? Ты бы хоть к нам в Питер съездил!".
Планы примечательны. Да и колонны тоже.
Произведения строятся на сильном пространственном эффекте. Возьмем излюбленный - лестницу в небо. Перспектива вытягивает любой тоннель в линию, перед нами две пересекающиеся перспективы, имеющие общую точку входа, но разные - схода. То есть, собственно, два расходящихся из угла параллелепипеда луча, прорезающих прямоугольную сетку комнат и этажей, зрительно один улетает вверх, другой - вниз.
В театральных декорациях позднего ренессанса и барокко можно найти аналоги расходящихся перспектив (но не столь заостренного противохода). Но ближе по пространственному переживанию не барочная декорация (в ней не живут и этажей она не перерезает), но самый натуральный авангард. Эти два расходящихся из одной точки луча легко себе представить как композицию Лисицкого. Да что Лисицкий - вспомним павильон Мельникова на Парижской выставке. И ни один классицистический вестибюль, ни одна ренессансная лестница никогда так не строилась. Скала Реджиа - не в счет, там нет противохода.
Но это вовсе не единственный мотив авангардной структуры в его работах. Возьмем проект кафе "Акрополь" - это круглая базилика, перерезанная пополам зеркалом для того, чтобы круг казался полным. Но круг, рассеченный прямой, - любимая тема абстракции, видимо, в порядке реализации того же чувства, которое заставляло Пикассо рассекать лицо молодой девушки.
А план еврейского театра, эти треугольные дорожки, складывающиеся в недопроявленный (отражающийся в чуть дернутой ветром воде?) магендовид? Ведь это абсолютно структуралистский план! А обнаженные конструкции? Невольно вспоминаешь, что, кажется, ни один уважающий себя модернист не преминул где-нибудь обнажить балку.
Снова Бродский:
"Я не то что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь и день потерян.
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это -
города, человеков, но для начала зелень".
Это редкая по концентрации эссенция модернистского умонастроения. В "за рубашкой в комод полезешь и день потерян" соединяются безнадежное одиночество и бессмысленность существования, "устал за лето" - бред продвижения ведомо куда сквозь механически же меняющиеся сезоны, когда усталость и сумасшествие путаются - вроде устал, вроде сошел с ума. Зелень, укрытая зимой, - метафора понятно чего - смерти, но восклицаешь "поскорей бы все это кончилось" тогда, когда знаешь, что ничего не кончится, будет также тягуче течь, как текло. Поэтому "поскорей бы пришла зима и занесла все это" пронзает прежде всего безнадежностью интонации. Безумие, безнадежность, бессмысленность бытия, одиночество и смерть - что еще нужно для мотивной структуры модернистского шедевра? Разве что секс, ну так он там появляется дальше.
Но одновременно - это же - поражает классичностью формы. В русском стихе шестииктовый дольник является дериватом гекзаметра и звучит столь же по-русски, сколь по-римски, а "человеков" кажется архаизмом едва не молитвенного толка. Цезура руинирует размер, сообщая стиху дополнительную подлинность. Так, будто это римский текст, написанный сразу по-русски и слегка разрушенный от времени ожидания, когда язык, на котором он написан, наконец появится.
Разумеется, это не модернизм, уложенный в гекзаметр, ибо классическая перспектива стиха очевидна. Она задана пушкинской просьбой "не дай мне Бог сойти с ума", но написано это постфактум "смерти Бога". Потому просить уже некого, остается безумие. Классическое безумие, однако, отличается от модернистского тем, что в нем есть классическая ретроспектива.
То уникальное свойство поэтики, о котором я говорю, - классицизация модернизма, соединение авангарда и классики. И того и другого в столь концентрированном виде, что от текстов Бродского то ли устаешь, то ли сходишь с ума.
Ход, который осуществляет Филиппов - скрещение модернизма и классики, - в целом очевиден. И классика, и модернизм - фундаменталистские дискурсы, они исходят из того, что архитектурная форма бывает истинная и ложная. Оказываясь рядом, они естественно полагают истинными себя и ложными друг друга. Никто из них, однако же, не говорит про себя: я - ложная архитектура. Что, собственно, делал постмодернизм. В оппозиции к постмодернизму у классики и модернизма больше сходств, чем различий.
Но случай Филиппова парадоксален в силу отсутствия соразмерного объекта служения. Пиранезианские видения филипповских квартир прочитываются как утопия в интерьере. В России, впрочем, после семидесяти лет хамского ханства частная жизнь и не могла быть ничем иным, кроме утопии, - и оставим эту тему за ее самоочевидностью. Утопия в этом случае не служит никакому идеалу переустройства общества, она становится утопией идеального предметного ряда. По природе своей частная утопия (если речь идет об архитектуре) может быть только утопией эстетической. Отсюда парадоксальность случая Филиппова. Сопряжение модернизма с классикой, о котором я говорил, возможно лишь в эстетической плоскости.
Но это невозможно. Эстетика модернизма есть полное отрицание классической, их нельзя соединить.
Люди стареют в разные стороны своего характера - то же касается "измов". Классики стареют энтропически - форма распадается до физической немощи как синонима духовной мощи - так у позднего Микеланджело или Тинторетто. Траектория старения всех авангардов модернизма задана феноменом "музейного кубизма". Под конец они впадают в старческий эстетизм.
Эренбург писал, что не понимает, как Пикассо может возненавидеть лицо молодой девушки. Оставим в стороне конъюнктурность текста "Люди, годы, жизнь". Каждый, кто имел дело с девушкой, способен, я полагаю, понять, за что можно возненавидеть ее лицо, - в этом смысле зрелый кубизм экзистенциально обоснован. Интереснее кубизм музейный. Лицо взорвано, но во взрыве остается эстетическое измерение. Это не тело, а его останки, но как изысканны их линии! Как удивительно гармонично рифмуется контур рваной раны с линиями груди! Настроение, штампованное образом стандартного героя сериала - серийным убийцей, любующимся фотографиями своих жертв. Разумеется, одно из глубочайших психологических открытий столетия.
Это ХХ-эстетика (если не ХХ-эротика), порожденная ХХ веком. Красота мусора, гниения, распада. Если долго гадить, то под конец находишь в этом известную прелесть. Чувство красоты восстанавливается, хотя и в довольно своеобразном виде. По счастью, лишенном салонной пошлости.
Проекты Филиппова куда гармоничнее, чем реализованные постройки. По некотором размышлении я пришел к уверенности, что дело не в гипсокартоне, швах, деревянных балках, но в чем-то более глубоком. Хай-тековское произведение проигрывает, если фаска, снятая с грани гайки, "слезла" на два микрона - именно постольку, поскольку предметом проектирования и является точность снятия этой фаски. Дело, разумеется, достойнейшее, но проектируется здесь как раз эта гайка, а никакой не ее идеал. Предметом же проектирования у Филиппова является даже не идеал, а его недостижимость в реальности. Проект в сравнении с постройкой знаменует собой первую ступень этой недостижимости.
К неклассичности композиций и планов постройки добавляют переживание поверхности. Если рассматривать его ордер в упор - перед глазами фактура авангардного коллажа. Выщербленные, сколотые его колонны куда как далеки от классического идеала. По этой классике прошлись кайлом, вслед за вопросом о девичьем лице могу спросить - за что он так ненавидит колонны?
Это та же ХХ-эсетика, невероятным вывертом увязанная с классикой. Если можешь переживать эстетические события только так - как истину фрагмента, равной фактуры, трущей твои глаза, - переживи так классику. Разумеется, в классике есть свое место для подобных смысловых ходов - эстетика руины. Но смысловых, а не пластических. То, что Филиппов представляет как руину, на самом деле таковой не является. У руины плавная пластика, коррозия нежно разрушает камень слой за слоем, это тонкая лессировка временем. Та же поверхность, которая нам предъявляется, - это авангардированная руина, здесь работали не лессировками, а ломом.
Но авангардный коллаж - вещь самодостаточная, его случайная структура есть отражение мира, понятого как хаос. Руина - всегда чего-то, за ней стоит некий утраченный порядок Рая.
Все тот же платонизм. Есть идеальная, бесконечно прекрасная и истинная колонна, все же реальные - ее бледные руинированные тени. Это эстетика распада как частный случай классической эстетики. Распад - о да, конечно! Нетленны одни идеи, все остальное - распад и тлен. Но в этом отражении распадающаяся плоть формы становится не столько эпатажем сознания, полагающегося в данный момент нормальным (чем занят любой авангард), сколько утверждением о существовании невыразимо прекрасного за пределами здешней физики.
Примерно также различаются безумие модернистское и классическое - безумие классика есть указание на величие ума, безумный модернист никуда не указывает, это псих в себе. Авангардность в этой ситуации становится странным образованием, которое я бы назвал апофатикой классицизма. Она утверждает красоту классики через указание на ее недостижимость.
А город? Ведь то, что его градостроительные проекты созданы для Москвы, в сущности, парадоксально.
Москва с Петра противостоит классицизации, а в России ХХ века полагается авангардной столицей. Если не в стиле Малевича, то в стиле Малявина, с ни с чем несообразной энергией материальных сгустков, летящих в плясе радиально-кольцевой планировки. Я бы сказал, Филиппову единственному удалось примирить этот пляс с ордером. Но как! - через распад классики.
Проект оформления Пречистенской набережной. Круглящиеся пиранезианские катакомбы - субструкции гигантского разрушившегося храма, идеально правильные концентрические круги, на которых выросло бог знает что - хаос. В этом хаосе среди прочего - не то, чтобы совсем маленькая, но церквушка - с трапезной, колокольней и остальным разнобоем вытянутых по оси отдельных объемов, который придает этим сооружениям что-то неповторимо московское в смысле противостояния классической логике идеального храма. Тот храм (естественно, центрический, раз идеальный) утрачен, даже не взорван, но взорван до того, как построен (имея в виду не Тона, а Витберга). Этот - напоминание об этой утрате градостроительного порядка, который никогда и не был обретен.
Человек, предлагающий классическую градостроительную схему в Москве, должен либо снести этот город, либо смириться с глубинной антиклассичностью его структуры. Филиппов эту структуру и делает источником композиции. Это классика не порядка, но хаоса, руины былого порядка. Не закономерности, но случайного проявления утраченной закономерности.
Суть индивидуального художественного языка - это попытка высказать именно себя. В конце концов, что разрушило целостность, откуда распад и хаос? Это обратная сторона свободы.
Свобода - ценность, за которую в принципе можно пожертвовать гармонией и величественностью композиций и поверхностей. Лирическое высказывание не делается гекзаметром, им пишут эпос - классика стирает личность. И, напротив, при всем своем космизме авангард не создал ни одного эпического произведения.
Потому что эпос невозможен в одиночку. Но в одиночку возможны руины эпоса. Филиппов создал свободную индивидуалистическую классику - сидящий в нем авангардный бес не тяготится быть классицистом.
Архитектор, проживший модернизм, но не переживший его, ущербен. Тотальное неприятие авангарда не отменяет авангардного неприятия мира, а его повторяет. Это не арифметика, и минус на минус не дает здесь плюса. Явленный авангардом распад экзистенциально обоснован - в ХХ веке нам представлены такие вершины руинизации, что искусство здесь заметно проигрывает реальности. После того как Бог умер, Рай возможен только как руины.

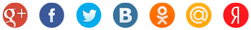 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments