Русский сталкер в Америке
- Архитектура
- Объект
 Андрей Вовк
Андрей Вовкинформация:
-
где:
США
Интервью с архитектором Андреем Вовком
Андрей Вовк
родился в 1962 году в Москве
В 1989 году закончил МархИ
Работал в «Моспроекте-2», в бюро «СИАС»
В 1991 году уехал в США
10 лет преподавал в Университете Нью-Йорка, в Архитектурном институте Прата
С 1992 по 2000 год работал с известным градостроителем Майклом Соркиным
Сейчас работает в фирме SLCE Architects
Андрей Вовк – легенда, хотя и малость подзабытая. 15 лет назад он считался одним из самых талантливых архитекторов новой, «постбумажной» генерации. Его проекты – будь то реконструкция Ярославля или скромная «голубятня» - приоткрывали новые смыслы архитектуры. Не новые формы, а новые темы: коммуникация, взаимоотношения людей и города, животных и машин, экология. Но здесь (как тогда, так и сейчас) это было никому не нужно. Вовк уехал в Америку и нашел там единомышленника – знаменитого Майкла Соркина. Одни считают его законченным сумасшедшим, другие - неудачником, способным быть только «one brilliant motivational speaker», третьи – великим футурологом. Суть же в том, что Соркин пытается разрешить средствами архитектуры самые разные человеческие проблемы – начиная от New York City Waterfront и вплоть до палестино-израильского конфликта. Пара «Соркин-Вовк» десять лет гремела по всему миру: но не там, где нужно было построить что-то эффектное, а там, где нужно было думать. Питер Кук, Леббеус Вудс, Моше Сафди – вот круг тех концептуальных архитекторов, с кем общался Вовк. А потом он вдруг взял и принялся строить со студентами маленькие экспериментальные домики – которые, например, можно было бы пронести на своих плечах в горы и там собрать. А потом разобрать - и унести. Сейчас Вовк снова пошел учиться, чтобы освоить уже строительные знания – и, может быть, воплотить свои эксперименты в серьезном масштабе. Недавно Андрей приехал в Москву и рассказал «ШК» о сложных перипетиях своей биографии.
- Андрей, почему вы уехали?
- Запутался в собственной жизни. Можно сказать – по семейным обстоятельствам. Но совсем не потому, что тут было плохо - тут было очень даже хорошо! МАрхИ, Союз архитекторов с многочисленными интересными мероприятиями и кафе-рестораном, друзья сумасшедшие. И архитектура была хорошая. Позднесоветская архитектура, кстати, очень похожа на то, что сейчас в Нью-Йорке строится - спокойные такие дома, не шедевры, но было в них чувство собственного достоинства. Лаконичность, простота, правда какая-то.
Хотя, когда первый раз попадаешь в Нью-Йорк – впечатление довольно резкое. У кого-то сразу откровенное отвращение, кто-то, как я, влюбляется, и так и остается в этом полублаженном состоянии до конца жизни. Или до тех пор, пока не появится еще какой-нибудь город. Иерусалим, или Токио, или Гонконг… Вообще я стал больше слушать города, чем смотреть. Город лучше воспринимается с закрытыми глазами. Потому что город – это совсем не про дома и дороги. А про людей и их взаимоотношения. Нью-Йорк – как раз про это.
- А мне всегда казалось, что Нью-Йорк – город нечеловеческого масштаба…
- Когда попадаешь в Нью-Йорк, начинаешь понимать, что такое город - невероятная плотность и разнообразие всего: людей, домов, денег. И когда всего вокруг тебя такое количество – то и качество меняется принципиально. Есть в Москве Театральная площадь с тремя-четырьмя театрами, один из которых – Большой. А здесь – целый микрорайон театров – и несколько из них довольно больших. Это действительно воспринимается совсем по-другому. Масштаб, плотность, разнообразие и, конечно, размер. Дома здесь действительно высокие и мосты действительно длинные. С развитием Азии, новыми проектами в Китае, Саудовской Аравии – Нью-Йорк и вся Америка в целом изрядно поотстала: чувствуется, что Нью-Йорк превращается в какой-то исторический город: столетнее метро и паровое отопление, совет по охране памятников и т.д. Но все-таки стоэтажные дома – вот они перед тобой – как на ладони. Новый дом Нормана Фостера на 57-й улице или новый корпус World Trade Center 7 от SOM – чуть выше 50 этажей. Но для Нью-Йорка этого маловато. 110 этажей - это нечто, а 60 – это на сегодняшний день обыкновенный жилой дом. У нас в офисе их несколько штук проектируется одновременно.
- Да у «близнецов» все достоинства высотой исчерпывались!
- Не только: дом как на ладони это было как-то так естественно: можно было запросто подойти к этим башням и дотронуться до стен, которые взлетали на 110 этажей в небо - потрогать небо. Какая-то дерзость в этом во всем была. Это же еще Рудольф Арнхайм писал: когда мы видим форму, первое, что имеет для нас значение – это физический размер. За размером – форма, и так далее. Масштаб. Это очень подходит к восприятию Нью-Йорка: небоскребы, длиннющие мосты, по которым можно идти полчаса. Бруклинский мост – классическая прогулка для романтиков и влюбленных. Мосты, с которых можно заглянуть в окошки чужих кухонь на каком-нибудь 25-м этаже. У Вуди Аллена, в фильмах про Нью-Йорк – мосты это персонажи города. Как и реки, и океан. Сорок минут на метро – и океан. Разве плохо?
- Хорошо, пусть размер – главное. Но ведь есть еще форма. Что происходит с ней?
- Последним оплотом архитектуры была тектоника. Но Фрэнк Гери подрезал ноги и ей. И нет уже никакого различия со скульптурой. Что Фрэнк Гери, что Фрэнк Стелла (а они большие друзья с этим великим скульптором) – это теперь одно свободное искусство. Сначала пол превратился в стену, потом стена в крышу, а сегодня все стало всем. Мы потихоньку отрезаем все, что связывает нас с Грецией. Сначала – ордер, потом - стены.
А недавно наткнулся на проект Ричарда Мейера: Jubilee Church в Риме. И в голову тут же пришло другое имя: Ричард Серра. Это скульптор, работающий с громадными металлическими листами двоякой кривизны. Ричард Мейер – Ричард Серра, Фрэнк Герри – Фрэнк Стелла. Где граница - и есть ли она? - между современной архитектурой и современной скульптурой? Где кончается выставочный зал? Или он так и не кончается нигде? Looks Cheap Гери в Сиэтле выглядит как очередная инсталляция с выставки концептуальной скульптуры. А его же концертный зал в Лос-Анджелесе – живая и блестящая гора, по которой можно ходить снаружи, пить кофе на террасах. Огромная скульптура, только, чтобы по ней лазить, детям и взрослым нужны лестницы и лифты.
- А мы тут почему-то считаем, что Гери это такой попсовый аттракцион…
- Мне очень нравится то, что делает Гери: он - художник. Говорят, что он начинал с шопинг-моллов: с трудом верится. Потом появилась компьютерная программа с красивым русским именем «Катя» и лед тронулся. Конечно, инженерия и современные технологии развиваются такими темпами, что архитекторам трудно это переварить и осмыслить. Сегодня можно построить все, что придет в голову. Вопрос только, что такое может прийти в голову. Кривые стены с золотыми ободками? Или Парфенон кверх ногами? Недавно видел по телевизору дома-утки…
Майкл Соркин, правда, тоже такие вещи делал: дом-коза, дом-собака… Но не органике подобные, как это сейчас модно стало, а любому организму. Он вообще больше всего известен фразой «Form follows anything»: форма следует всему чему угодно. Которая противостоит догмату всей современной архитектуры: «Форма следует функции». Он сказал это довольно давно, лет 20 назад – и оказался прав. Не знаю, правда, надолго ли.
Потому что, конечно, есть и другие темы, достойные внимания. Я сейчас хожу в школу, где один из предметов – механическое оборудование сооружений, электрика и водоснабжение. Учебник в 1600 страниц, и половина – про то, как беречь воду, землю, энергию. Похоже, что электрики и водопроводчики судьбами планеты озабочены больше, чем архитекторы. Даже смешно: что мы-то делаем?
Как-то мы с Соркиным работал в Малайзии, делали небольшой город с местным архитектором Кеном Янгом. Помимо того, что построил несколько интересных высоких домов, Янг написал книгу «Bioclimatically Reconsidered Skyscraper». И это поразительно: в далекой Малайзии «местные архитекторы» думают об экологии! Наверное, именно так рождаются новые формы: когда архитектор начинает думать о чем-то большем, чем форма.
- Но что остается архитектуре после формы – если ее больше нет?
- Остается поверхность. Стекло. Хотя стеклянная поверхность – это совсем другое качество, ее и не видно иногда. Невидимые дома, отражения отражений. В Нью-Йорке много стеклянных домов, идешь по улице и не знаешь, где настоящее солнце: потому что собственная тень то спереди, то сзади. Уже сумерки, а совсем светло. Смотришь на один дом – а видишь в нем отражение дома напротив. Стекло разговаривает – не про себя, а про того, кто смотрит и про все, что вокруг. Интерактивная поверхность.
- Но есть еще один модный вариант поверхности: экран.
- Да, это следующая страница в «энциклопедии новых не форм, а поверхностей». То, что происходит на Таймс-сквер, похоже на научную фантастику. Экраны с великолепным качеством изображения выросли до размеров 5-6-этажного дома. Из картинки на стене экран превратился в самое стену. Изображение убивает поверхность – так нас учили в МархИ. То же самое говорил американские абстрактные экспрессионисты 40-х-50-х годов. Еще вспоминается Андрей Боков: вот фасад глубиной полметра, а сколько истории можно на этом фасаде рассказать! Сегодня экран – несколько сантиметров глубиной и разные истории каждый день.
Конечно, кино интереснее фотографии. Тот же Арнхайм: глаз невольно следит за тем, что двигается. И экран с кино это первое, что притягивает внимание. Смотришь на движущееся изображение на стене дома, и если вдруг посередине экрана каким-то образом оказалось окно (настоящее окно, комната, живые люди), то именно это настоящее окно выглядит как-то плоско и нелепо! Не говоря уж о самом доме, стена которого – экран.
- Но Рэм Колхас сделал в знаменитом чикагском ITT (Иллинойский технологический университет) еще более оригинальный экран – не зеркальный…
- Он построил студенческий центр прямо под рельсами метро: поезд проходит над домом (метро надземное). Но главная достопримечательность этого сооружения – стеклянный фасад. Чтобы его описать, проще дать рецепт: как это сделать в домашних условиях. Набрать дикое количество пластиковых трубочек из макдональдса, порезать их по полтора сантиметра длиной и сложить их бок к боку, чтобы получилась стенка метров 10 высотой и 100 шириной. Рамка того, что видно через такую стенку, превращается в круг. Все, что попадает в этот круг – видно, остальное – нет. Круглое окно, которое перемещается вместе с тобою, когда ты идешь вдоль этой стенки. А когда на улице темнеет и автомобили включают фары, эта стенка оживает. Круги света возникают ниоткуда, вырастают, умирают. Удивительное ощущение: действительно живая поверхность. Но живая совсем не так, как киноэкран: она, поверхность, живет вместе с тобой и с городом.
- Но есть же еще «одноэтажная Америка»…
- Да, там все законсервировалось. Как и в маленьких городах Европы. Да как и Париж! Конечно, человеческий масштаб, уют, комфорт, но это все, как бы это сказать? «Антик». Да, красота, но хочется же другого. Я лучше в Диснейленд поеду.
- А откуда это «хочется другого»? У нас, например, наоборот, нашествие «антика».
- «Антик» это уже не про стиль, а про мировоззрение. Мне как-то довелось поучаствовать в проекте для Тайваня. И «местные архитекторы» так объяснили: современная архитектура, или точнее, неомодернизм ассоциируется с небогатой молодежью. А классическая («антик», неоконсерватизм) – для более обеспеченных и постарше. И это не только на Тайване, это везде. С этим нужно научиться как-то жить: народ не переделаешь. Хотя себя тоже переделать трудно.
У неоконсерватизма много плюсов: строительные технологии отработаны десятилетиями, риски строительства и эксплуатации довольно предсказуемы. То же самое про «внешний вид»: проверено, большинству нравится. Немного смущало только то, что в тех тайваньских башнях нас просили сделать имперских орлов на воротах… Без свастик – но орлов. С другой стороны, на американском гербе тоже орлы, как и на русском. То ли с двумя, то ли с тремя головами: не помню, не считал. В Азии вообще модернистской архитектуры много. Есть замечательные города: современные, зеленые, стекло и бетон. Но им не хватает разнообразия. Как в Нью-Йорке, где рядом с этим есть небоскребы 30-х, 50-х годов. Поэтому, наверное, такие заказы – с имперскими орлами – в Азии и появляются. А раз есть заказ – найдется и тот, кто захочет им заниматься. Я так и не захотел, зря, наверное.
В Москве же, мне кажется, достаточно до- и послевоенного классицизма. Странно, что он снова нужен. Впрочем, не нам судить. Народ платит за то, что ему нравится.
- Слово «город» неизменно доминирует в ваших размышлениях об архитектуре…
- Да, потому что «город» это понятие более важное, чем «архитектура». Некоторое время я помогал Соркину работать со студентами. Он предлагал им один и тот же проект: город. Город на пустом месте, с абсолютного ноля. Для начала студенты нарезали сотни деревянных кубиков и расставляли их без разбора на листы фанеры. За одну-две недели посевы «созревали», и прямо на глазах вырастало что-то действительно похожее на город со всеми вытекающими из этого проблемами. Затем столы собирались вместе посредине комнаты. На столах расстилали план города в каком-нибудь 500-м или даже 200-м масштабе и начиналось коллективное рисование. Студенты перемещались вокруг стола как в «Алисе в стране чудес»: нужна чистая чашка – пересядь на соседний стул. Рисовали, правда, стоя, склонившись над столом. Правило было одно: что нравится – оставлять, что не нравится – перерисовывать. Через несколько «оборотов» вокруг стола натуральная эволюция и общая усталость давали себя знать и огромный коллективный шедевр вывешивался на стену. Обычно за этим следовало всеобщее двухчасовое молчание, после чего студенты уходили домой, не прощаясь. Да уж. Через неделю или две вдохновение обычно возвращалось - и в город «возвращалась» жизнь. Странные были проекты. Наверное, такие же странные, как и настоящие города: живые, непонятные, противоречивые.
- А почему же вы ушли от Соркина?
- Через некоторое время у меня появилась своя студия и наши с Соркиным пути естественным образом разошлись. Я открыл для себя замечательную программу design and build, которая существовала в США по крайней мере с 60-х. Студенты же вообще не понимают, что такое архитектура. Да и я после МАрхИ не очень-то понимал. А тут загорелся: учить можно, только делая. Design and building это значит «проектируем и строим», причем одновременно. Начинали с того, что строили стул. Задача: принести на занятие стул, который можешь в метро провезти, из Бруклина в Гарлем. Потом делали фут-трак для нашего местного Henry, продающего кофе и всякие вкусные разности перед входом в университет: такой складной полу-киоск, прикрывающий Henry от зимних ветров и снега с дождем. Эта штуковина прожила три сезона. Каждое утро Henry собирал ее, вечером разбирал и уносил куда-то на ночь.
А следующий проект был такой: домик примерно в 300 квадратных футов делается в Нью-Йорке, потом упаковывается и высылается FedEX Ground в Калифорнию. Следом летит группа студентов: человек десять вместе со мной и моей дочкой. Дом весит 400 кг, вмещается в ящик 4 х 6 х 8. На руках и на каких-нибудь полуколесах все это поднимается в изумительной красоты каньоны. К вечеру дом стоит на зеленом склоне. Усталые студенты спят вповалку на полу, и так далее: тусовки, костры по ночам, купаться на океан, хотя это апрель и ночи холодные.
- Но это уже что-то иное, не архитектура!
- Да, но только тут и начинаешь понимать, чем дом – живой дом – отличается от какой-нибудь инсталляции на выставке. Остались щели незакрытые – проснешься утром с больной спиной. Не подумаешь об элементарных «допусках и посадках» - болты не влезут во влажное дерево. Я понял, что дизайн можно назвать дизайном, только после того, как он построен и обжит. Странно, что студенты, будущие архитекторы, работают на выставки в галереях, на инсталляции, на публикации в журналах. Это им кажется гораздо важнее, чем незаделаные щели, и продутая шея, и насморк.
- А зачем вам – взрослому человеку – все это нужно было?
- Неинтересно ходить там, где все ходят. Интересно пойти туда, где еще никто не был. Хотя я и не знаю толком, что хотел бы найти. Сталкер – вот хорошее слово.
- А «клуб рисования» вы открыли – это был куда поход?
- Я преподавал в архитектурной школе и все время теребил кого мог: в МархИ была теория композиции и разное цветоделение, рисовали много, а меня чуть с третьего курса не отчислили за плохие отметки по рисунку. С тех пор обидно и досадно было: как же так? И тогда я решил для своих студентов организовать специальный класс рисования. Снял на один вечер в неделю помещение ночного клуба на Хадсон. Я был знаком с его владельцем: странный старик из Австралии. Над клубом было этажа три, похожие на аттик: какие-то коллекции ключей, подобранных на улице, аквариум с морскими черепахами (мы их рисовали с детьми, очень подвижные животные), короче, странные вещи творились в Даун-тауне. По соседству жили кинозвезды: де Ниро и Харви Кейтель. На первом этаже этого сумасшедшего дома был модный ночной клуб «Body and soul». Там мы и рисовали поначалу. Начали, как положено, с чашек и тарелок. Потом натурщики. А еще потом стало ясно, что студентам все это не особенно и интересно. Вспоминаю себя: мне тоже неинтересно было. Стало интересно совсем недавно.
Потом вместо студентов пришли люди повзрослее, те, кому не надо ничего объяснять и показывать. Так мы и прорисовали два года. Год отдали натурщикам. Потом поняли, что надо куда-то двигаться и попробовали натурщиков разговорить. Можете себе представить: девочка лет 20 с небольшим, белая, готовится стать репером, беременная непонятно от кого… Неинтересные истории, невдохновляющие. Но как-то я познакомился в индийском ресторане с симпатичным ситаристом и пригласил его поиграть перед нами. Очень хорошая натура, музыка спокойная и медитативная. Ситарист привел с собой друзей-музыкантов – так началась наша музыкальная эпопея. Для разнообразия появлялись глотатели огня, поэты, кого только не заносило на огонек. У меня под конец была записная книжка имен на триста: Performance artists on New York city area.
Естественно обнаружилось, что мы не единственный такой клуб в Нью-Йорке. В других клубах было и покруче: к примеру, Фрэд Хат в Бруклине рисовал флюоресцентными красками танцующих в темноте обнаженных женщин. Красота необыкновенная. Потом заворачивал этих женщин в ткань, и отпечаток раскрашенного тела на ткани становился живописью или рисунком. Мы в том время тоже начинали рисовать танцующую натуру, но ничего не получалось: не знали, как. Хотя если в историю искусства заглянуть, то был прецедент: итальянский фьючеризм. Он тоже занимался рисованием движения. Кстати, владелец нашего клуба был в родстве с Александром Кальдером…
Но главное: когда мы начали рисовать танцующих людей, изменилась сама концепция рисунка. Я все больше стал воспринимать рисунок как хореографию руки. Рисунок это процесс. Он совсем не на бумаге, а в пространстве между бумагой и рукой. И соответственно рука нужна не для того, чтобы рисовать танцоров – а чтобы танцевать с танцорами. Фрэд Хат действительно танцевал с кистями в руках вместе со своими моделями и что это было: рисунок или кино? Не знаю. Трудно определить границу. Рисунок это же совсем не про тарелки с апельсинами. А кино – совсем не про любовь.
Я вообще поклонник американского абстрактного экспрессионизма. Если видели кино про Поллака – это как раз то, о чем я пытаюсь говорить. Поллак танцует, летает над своими полотнами. И именно в пространстве (а у Поллака это метры пространства) между кистью и холстом - и живет его живопись. Вспоминается то, во что завернули тело Иисуса – плащаница, да?
Последнее наше рисовальное мероприятие было такое: у нас были ролики и кусок паркинга в Нью-Джерси - громадное асфальтовое поле. Там пожарные машины время от времени проверяли свои шланги – кто дальше струю запустит. Неплохо для начала. Решили порисовать по выходным. Купили валики и ведра с краской. Было похоже на хоккей, только без шайбы. Хотя пробовали катать мячи по полю вместо шайб – но я не знал, как это сделать технологически. В валики тоже краски много не впитывается, так что линии рисовались не такие длинные, как хотелось бы. Но покатались на славу. Порисовали, сняли кино из окна автомобиля. А как еще можно было смотреть наше произведение? Сверху целиком не имело никакого смысла: только когда ходишь или даже лучше ездишь по своему рисунку – интересно. Как книжку читать – страницу за страницей, не все сразу. Или как кино.

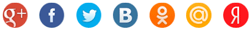 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments