10.11.2004
Лара Копылова //
Интерьер+Дизайн, 10.11.2004, №11
Что у нас в подкорке
- Наследие
информация:
-
где:
Россия. Москва -
архитектор:
Питер Айзенман ; Деметри Порфириос ; Михаил Тумаркин; Михаил Филиппов
Зачем нам классика? Мнения архитекторов Питера Айзенмана, Максима Куренного, Михаила Тумаркина, Михаила Филиппова, Деметрия Порфириоса и профессора архитектуры Курта Форстера.
«Гуманитарная тоска по классике», по выражению одного профессора архитектуры, прослеживается в русском обществе. Эта тоска породила кучу странных ремейков, кича с квазиисторическими деталями. На уровне буржуазного дома это экзотические подмосковные коттеджи, на уровне города — «лужковский стиль» с башенками, который в последние годы плавно мутирует в сталинский. Особенно примечательны высотки на Павелецкой или «Триумф-Палас» на Соколе. Потребность общества в классике есть, а ответить на нее на соответствующем профессиональном уровне почти некому. Большинство архитекторов, в силу образования, могут строить только современную архитектуру, а когда берутся за классику, получается плохо. В сталинское время такой проблемы не было, так как работали архитекторы Серебряного века, и только в хрущевской борьбе с излишествами классическая архитектурная культура окончательно погибла.
Чтобы оценить перспективы классики в России и в мире, а заодно понять ее связь с имперской идеологией, мы провели нечто вроде заочного круглого стола. В нем приняли участие архитекторы-фундаменталисты Михаил Филиппов и Михаил Тумаркин, которые в одиночку восстанавливают сложный классический язык в России; грек Деметрий Порфириос (Demetri Porphyrios), который делает то же самое на Западе; Питер Айзенман (Peter Eisenman), идеолог деконструкции и непримиримый оппонент классики; профессор Курт Форстер (Kurt Forster), куратор Венецианской архитектурной биеннале 2004; и архитектор Максим Куренной, который предлагает компромисс сталинского стиля с современностью.
Сталинская архитектура — визитная карточка Москвы
Михаил Тумаркин: Значительная часть московской архитектурной идентичности, московского образа — сталинский слой: высотки, улица Тверская-Горького, метро. Больший по материальному весу слой хрущевско-брежневской архитектуры, в которой живет больше людей, словом «Москва» не называется. Все эти химки, медведковы, бибиревы и митины являются Москвой по административной принадлежности, но не по смыслу. С социологической точки зрения сталинская архитектура — часть самоощущения Москвы и того, как ее воспринимают со стороны. Что касается перспектив этого типа архитектуры, то перспективы есть, а хороших примеров мало. Дом Д. Бархина на Садовом кольце относительно удачный. Остальное является упрощением, снижением образов и ремесленного качества. Это не значит, что нет потенциала. Недостаточно профессиональной культуры, чтобы сделать на уровне. Донстроевский «Триумф-Палас» по сравнению с любой сталинской высоткой — карикатура. Но других традиций высотных зданий в Москве нет, и вовсе не стоит относиться к этой традиции пренебрежительно.
Михаил Филиппов: Сталинская архитектура — это коктейль конструктивизма и неоклассицизма начала ХХ века. Этот коктейль, к сожалению, отравлен конструктивизмом. Главное свойство рядовой сталинской застройки в том, что она пронизана мертвой промышленной конструктивистской сеткой и при этом имеет виртуозную, нежную, великолепную деталь, происходящую из Серебряного века. Мертвая сетка проявляется в одинаковости окон. На разных этажах одинаковые квартиры. В неоклассицистическом доходном доме Серебряного века, наоборот, обрамления окон по вертикали разные. Они меняются от этажа к этажу.
Эстетический модуль старого жилья — квартира. Он означает, что здесь живет семья, которая отличается от семьи рядом или семьи снизу. Сталинский дом говорит: тут живут одинаковые люди. А модуль конструктивистского дома с ленточными окнами — вообще «советский народ» и все прогрессивное человечество, то есть ничто. Поэтому, на мой взгляд, неоклассицизм Серебряного века сегодня гораздо перспективнее. Кроме окон ощущение жилого дома дает масштаб. В жилом комплексе на Долгоруковской, который я проектирую, здания не превышают 8–9 этажей. Высота старой застройки в Париже и Санкт-Петербурге 7–8 этажей. Это не зря. Умели строить и выше. Ограничение высоты необходимо для сохранения масштаба жилого дома.
Максим Куренной: Cталинский стиль вполне может претендовать на звание «московского» стиля, он популярен у заказчиков, это сидит у них в подкорке: жить в высотке на Восстания… Правда, он не совсем современен технологически. Для меня это направление представляется как создание не форм, а духа, масштаба, среды со сталинскими дворами, вазами... Эта тема ко многим частям Москвы подходит по контексту. И, конечно, мне нравится имперская мощь, которую, я считаю, надо использовать в качестве носителя, нагружая на нее какие угодно смыслы, желательно — гуманные. Эта мощь может как подавлять, так и возвышать. Сейчас мы делаем проект, заказчик которого хотел «классику», чтобы проект понравился властям. Когда мы поняли, что нужна качественная, классическая картинка, то обратились к соответствующим архитекторам. В качестве вдохновения использовали проекты сталинского времени для этой территории. При этом то, что мы сделали в итоге, абсолютно современно. За основу взяли работы немецкого архитектора Колхофа. Получился странный микс. Классика не значит колонны. Это могут быть пропорции, планировка.
Обвинение в пособничестве
Западные люди упрекают классику в тоталитаризме. В Германии невозможно строить классику, потому что она ассоциируется с архитектурой Третьего рейха. Но ситуация сложнее. Едва ли стиль может отвечать за идеологию. Америка 1930-х полна классицизма, не будучи тоталитарной страной. В ХХ веке тоталитаризм пытался поставить себе на службу многие стили. Кроме сталинского ампира есть и сталинское барокко (станция метро «Арбатская»), и сталинский ар деко (высотки, станции метро «Аэропорт» и «Маяковская»). В конце концов, Дом на Набережной — чем не сталинский модернизм? Выглядит очень тоталитарно и подавляюще. И наоборот: классицист Жолтовский был обвинен в космополитизме, но тогда же стало известно о присуждении ему Сталинской премии. Власть сама не могла определиться.
Михаил Тумаркин: Имперскость, аристократизм и гуманизм — обязательные способы существования классицизма в культуре. Классицизм, опирающийся на чрезвычайно рафинированную эстетическую программу, — достаточно аристократическая система. Он требует развитости, знаний и определенной свободы, чтобы не стесняться признаваться в своей расположенности к этой системе, не бояться показаться недостаточно демократичным, недостаточно таким, как все.
Безусловно, в классике есть имперские компоненты. Слово «тоталитарный» здесь лишнее, это последствие ХХ века, а для классицизма, существующего с древнегреческих времен, век — очень короткий отрезок. Но то, что эта система основана на непровинциальных культурных традициях, это точно. Я имперское в данном случае воспринимаю как мультинациональное, как соединяющее в себе множество культур внутри цельной, стройной, принятой всеми этими культурами системы. В этом смысле имперское как символ культурного котла Британской империи, Российской империи — родовая черта классицизма.
Михаил Филиппов: Имперский и тоталитарный — два разных типа сознания. Тоталитаризм имеет отношение только к ХХ веку. Тоталитаризм во всех формах, где бы он ни возникал, был реакцией на коммерческо-буржуазное общество потребления. Вся идеология Серебряного века является решительной попыткой сопротивляться наступающему капитализму. Это восстание аристократии против эстетики рынка, выразившейся в беспределе эклектики и модерна. У Грабаря есть про это книга «Искусство в плену». Серебряный век не очень серьезно, ностальгически взывал к большому государственному управлению искусством. Александр Бенуа на съезде художников мечтает об александровском времени, которое имело большой стиль — ампир, о государственном управлении. Для этого надо устроить культурную революцию, чтобы ничего, кроме большого стиля, не было. Самое трагическое, что сталинизм, его культурная программа — это осуществление культурной программы Серебряного века.
Но так как была выключена самая главная составляющая — христианство, и так как культурная революция осуществлялась под знаменем демократического атеизма, эта культурная программа превратилась в тоталитаризм. Как у нас, так и в Германии.
Кто заказчик классики
Мы зализываем раны, нанесенные революцией, восстанавливаем потерянный уклад — буржуазный, а кто-то, возможно, и аристократический. Не все сразу получается. Наши коттеджные поселки — мишени для острот, но это смех сквозь слезы. Стилистическая карта выглядит так:
Михаил Тумаркин: Понятных классических домов, как и понятных модернистских, мало — по 2–3%. Чистые классика и модернизм — это «меньшинства». Остальные 94% представляют жутковатую смесь: то ли армянский поселок, то ли литовская деревня. Этому мейнстриму трудно подобрать название, я бы его определил как невыразимую беспрецедентность.
К классике тяготеют люди не обязательно очень рафинированные, но с твердой системой ценностей, с ориентацией на перспективу, на семью, на выстраивание преемственности поколений и передачу наследства детям — в общем, на традиционные ценности (вне религиозной морали). Но надо честно сказать, что иногда к такому заказу приводит и культурная неопытность, поскольку классическая традиция — это самое ясное, на что можно опереться. И человек не робкий, он не боится прослыть ретроградом, но боится промахнуться, он желает организовать все прилично, дорого, культурно, чтобы деньги говорили о себе, чтоб люди не смеялись и чтоб удобно жить было, — такой человек заказывает классику. Возраст — сложный критерий. У меня были и очень молодые клиенты, и среднего возраста, и постарше. Профессию заказчика классики определить в нашем разложенном обществе невозможно.
Максим Куренной: Классика нужна тем, кому за пятьдесят, или для специальных архитекторов. Она привлекает тех клиентов, которые не хотят попасть впросак. У нас страна страшно закомплексованных людей. Им требуются средства для того, чтобы комплексы преодолевать, они не уверены в себе. Клиенты за пятьдесят начинают сомневаться в собственном вкусе. И им необходимо знать: то, что они имеют, безусловно хорошо. А в этом отношении классика вещь проверенная.
Михаил Филиппов: Классику заказывает человек, который не заражен иллюзиями большого арта. Таких большинство. Для того чтобы узнать, в чем заключается модернистская идея, надо долго вариться в этом котле, что делают немногие. Строят сейчас, чтобы вложить куда-то деньги. И коммерческие граждане интуитивно чувствуют, даже без всяких оценок стиля, что современная архитектура — очень подверженное моде изделие, оно по определению таково. А в классике есть свойство, понятное и непрофессионалу: она и через сто лет будет иметь ценность.
Михаил Тумаркин: Глубокое заблуждение, что построить навороченный модернистский дом легче, чем классический. А уж деконструктивистские дома почти никто не может построить. Все стекляшки в мире текут. Во всех не решены проблемы с климатизацией, поскольку там подавляющее большинство материалов аллергенные, синтетические, воздухообмен, как правило, искусственный. Модернистские дома быстро и некрасиво стареют. Жизнь классического дома из традиционных материалов во много раз дольше, и реставрировать его легче.
Классический архитектор: творец или продавец?
На Западе чистой классики и чистого модернизма тоже мало, но основная масса там — не кич, а вернакуляр, т.е. дома в местных традициях. Хотя революции у них не было и ничто насильственно не прерывалось, классика там находится в резервации. У классицистов отдельные вузы и отдельные выставки.
Курт Форстер (объясняя, почему нет классической архитектуры на Венецианской биеннале): Меня интересует только новое, изменения, а классика — это попытка импортировать прошлое в настоящее. Я понимаю, что некоторые люди любят здания банков с колоннами и портиками. Но я не считаю эти здания архитектурным жестом, это жест социальный.
Это расхожее обвинение и на Западе, и у нас. Куратор Юрий Аввакумов выразил этот взгляд, назвав модерниста творцом, а классика — продавцом.
Михаил Филиппов: Архитектор может быть и творцом и продавцом — в зависимости от таланта. Классическая архитектура — это сознательно принятая несвобода, то есть свобода творчества в установленных канонических рамках, которая открывает, как мы знаем, настоящий творческий потенциал. Творец только тогда творец, когда он несвободен в форме. История архитектуры ХХ века свидетельствует, что свобода формотворчества порождает унифицированность, угнетает художественную личность, превращая искусство, по словам того же Бенуа, в базар грошовых индивидуальностей. Сравнение некорректно-жесткое, но это то же самое, как если бы человек решил нарушить все заповеди и считал себя свободным, в отличие от «жалкого раба», который живет по заповедям. Эти творцы все похожи друг на друга, как заключенные одного творческого концлагеря. Единственное, что они хорошо замечают, — разницу между старой архитектурой и современной. Это действительно разные жанры. Современная архитектура ближе к дизайну. К сожалению, классика и реалистическое искусство уже давно находятся вне актуальных проблем большого искусства. Они, конечно, в достойном положении, потому что всегда есть люди, которые хотят, чтобы портрет дочери был похож на дочь. Но поскольку вся большая эстетика ушла в сферу неэстетического поиска, то классическому искусству осталась роль коммерческого кича. Еще одно некорректное сравнение: в ХХ веке церковное искусство во всем мире стало уделом кича, а в нашей стране — уделом пригородной деревенско-бабушкиной эстетики. Почему? Тут вина самого искусства, потому что из среды, где оно могло бы черпать жизнь и красоту, оно удаляется в другую сферу и тихо погибает в этой пустыне. Это свидетельствует об очень глубоком кризисе. Ту точку зрения, что модернисты — творцы, а классики — продавцы, разделяет 99% профессионалов. Что вовсе не значит, что это истина. Известны случаи, когда истину знал один человек на всю вселенную.
Михаил Тумаркин: На эти обвинения модернистов можно только нецензурную фразу произнести или в глаз дать. Это откровенная беззастенчивая ложь от осознания безнадежности дела, которым они занимаются. Впрочем, иной раз и люди с серьезным академическим статусом говорят то же самое. Любимая тирада г-на Хан-Магомедова, исследователя конструктивизма: из разговора о современной архитектуре надо исключить архитектуру в стилях, поскольку это не творчество, а коммерческое воспроизведение шаблонов. Он чуть более культурно говорит то, что другие произносят сбивчиво и по-пацански. С теоретической точки зрения, творческое выражение возможно в любой системе профессиональных координат, ровно в той же степени, в какой возможно эпигонское или беспомощное выражение. Первична не система, которой пользуется архитектор, а его способность генерировать эстетические ценности. Краеугольным камнем модернизма является утверждение, будто новация сверхценна, а традиционность — ретроградна. Если стать на эту точку зрения, тогда, конечно, в рамках традиционной эстетики любые высказывания вторичны, а поскольку рынок их приемлет, то они обоснованы коммерчески, и больше никак. А любые высказывания, которые находятся в канве модного тренда, ценны просто потому, что они претендуют на новации. Но это так, если принимать первую посылку, — а тут уж дело выбора. Серьезного анализа эта точка зрения не выдерживала никогда, даже когда была выдвинута.
Две крайности
Питер Айзенман: Никаких классических вилл, симметричных планов, портиков с колоннами больше быть не может! Для Палладио человеческое тело, его симметрия, были основой архитектуры. Но тело мы теперь понимаем иначе. Мы знаем, что ДНК несимметрична и что конфигурация этой молекулы, отвечающей за развитие человека, весьма причудлива. Тело в старом смысле больше не является мерилом для архитектуры! Есть другие измерения. Моя архитектура со сдвинутыми планами отражает сознание современного человека. Это современный дух, который ни на чем не настаивает и обо всем спрашивает, который не верит в истину, добро и красоту, но ставит их под вопрос. Архитектура современности должна следовать за философией, за наукой, за действиями человека. Человеческое в архитектуре состоит не в демонстрации метафизического центра (возвращение к нему невозможно), а в том, чтобы сделать людей счастливыми, оформить их жизнь. А это значит спросить их, какой она должна быть. Вот что такое новая человечность.
Деметрий Порфириос: Я уверен, что реальный вклад архитектора состоит в том, чтобы правильно выбрать, что заимствовать. Ренессансный архитектор Альберти подражал античности, но его вещи не похожи на античность: другие технологии, другая политика, другая мода. Похож только принцип: польза, прочность, красота. Для частного дома этот принцип вечен. Архитектура не имеет ничего общего с «манией новизны», правящей в современном искусстве. В отличие от искусства, она не может позволить себе цинизм и иронию. Люди всегда стремятся жить в добротном и красивом доме. Да, времена меняются, архитектор обязан обновлять то, что необходимо обновлять. Но поскольку классическая традиция бесконечно разнообразна, она вечно длится. Нет ничего нового, что было бы добрым, и ничего доброго, что было бы новым.
Комментарии Чтобы оценить перспективы классики в России и в мире, а заодно понять ее связь с имперской идеологией, мы провели нечто вроде заочного круглого стола. В нем приняли участие архитекторы-фундаменталисты Михаил Филиппов и Михаил Тумаркин, которые в одиночку восстанавливают сложный классический язык в России; грек Деметрий Порфириос (Demetri Porphyrios), который делает то же самое на Западе; Питер Айзенман (Peter Eisenman), идеолог деконструкции и непримиримый оппонент классики; профессор Курт Форстер (Kurt Forster), куратор Венецианской архитектурной биеннале 2004; и архитектор Максим Куренной, который предлагает компромисс сталинского стиля с современностью.
Сталинская архитектура — визитная карточка Москвы
Михаил Тумаркин: Значительная часть московской архитектурной идентичности, московского образа — сталинский слой: высотки, улица Тверская-Горького, метро. Больший по материальному весу слой хрущевско-брежневской архитектуры, в которой живет больше людей, словом «Москва» не называется. Все эти химки, медведковы, бибиревы и митины являются Москвой по административной принадлежности, но не по смыслу. С социологической точки зрения сталинская архитектура — часть самоощущения Москвы и того, как ее воспринимают со стороны. Что касается перспектив этого типа архитектуры, то перспективы есть, а хороших примеров мало. Дом Д. Бархина на Садовом кольце относительно удачный. Остальное является упрощением, снижением образов и ремесленного качества. Это не значит, что нет потенциала. Недостаточно профессиональной культуры, чтобы сделать на уровне. Донстроевский «Триумф-Палас» по сравнению с любой сталинской высоткой — карикатура. Но других традиций высотных зданий в Москве нет, и вовсе не стоит относиться к этой традиции пренебрежительно.
Михаил Филиппов: Сталинская архитектура — это коктейль конструктивизма и неоклассицизма начала ХХ века. Этот коктейль, к сожалению, отравлен конструктивизмом. Главное свойство рядовой сталинской застройки в том, что она пронизана мертвой промышленной конструктивистской сеткой и при этом имеет виртуозную, нежную, великолепную деталь, происходящую из Серебряного века. Мертвая сетка проявляется в одинаковости окон. На разных этажах одинаковые квартиры. В неоклассицистическом доходном доме Серебряного века, наоборот, обрамления окон по вертикали разные. Они меняются от этажа к этажу.
Эстетический модуль старого жилья — квартира. Он означает, что здесь живет семья, которая отличается от семьи рядом или семьи снизу. Сталинский дом говорит: тут живут одинаковые люди. А модуль конструктивистского дома с ленточными окнами — вообще «советский народ» и все прогрессивное человечество, то есть ничто. Поэтому, на мой взгляд, неоклассицизм Серебряного века сегодня гораздо перспективнее. Кроме окон ощущение жилого дома дает масштаб. В жилом комплексе на Долгоруковской, который я проектирую, здания не превышают 8–9 этажей. Высота старой застройки в Париже и Санкт-Петербурге 7–8 этажей. Это не зря. Умели строить и выше. Ограничение высоты необходимо для сохранения масштаба жилого дома.
Максим Куренной: Cталинский стиль вполне может претендовать на звание «московского» стиля, он популярен у заказчиков, это сидит у них в подкорке: жить в высотке на Восстания… Правда, он не совсем современен технологически. Для меня это направление представляется как создание не форм, а духа, масштаба, среды со сталинскими дворами, вазами... Эта тема ко многим частям Москвы подходит по контексту. И, конечно, мне нравится имперская мощь, которую, я считаю, надо использовать в качестве носителя, нагружая на нее какие угодно смыслы, желательно — гуманные. Эта мощь может как подавлять, так и возвышать. Сейчас мы делаем проект, заказчик которого хотел «классику», чтобы проект понравился властям. Когда мы поняли, что нужна качественная, классическая картинка, то обратились к соответствующим архитекторам. В качестве вдохновения использовали проекты сталинского времени для этой территории. При этом то, что мы сделали в итоге, абсолютно современно. За основу взяли работы немецкого архитектора Колхофа. Получился странный микс. Классика не значит колонны. Это могут быть пропорции, планировка.
Обвинение в пособничестве
Западные люди упрекают классику в тоталитаризме. В Германии невозможно строить классику, потому что она ассоциируется с архитектурой Третьего рейха. Но ситуация сложнее. Едва ли стиль может отвечать за идеологию. Америка 1930-х полна классицизма, не будучи тоталитарной страной. В ХХ веке тоталитаризм пытался поставить себе на службу многие стили. Кроме сталинского ампира есть и сталинское барокко (станция метро «Арбатская»), и сталинский ар деко (высотки, станции метро «Аэропорт» и «Маяковская»). В конце концов, Дом на Набережной — чем не сталинский модернизм? Выглядит очень тоталитарно и подавляюще. И наоборот: классицист Жолтовский был обвинен в космополитизме, но тогда же стало известно о присуждении ему Сталинской премии. Власть сама не могла определиться.
Михаил Тумаркин: Имперскость, аристократизм и гуманизм — обязательные способы существования классицизма в культуре. Классицизм, опирающийся на чрезвычайно рафинированную эстетическую программу, — достаточно аристократическая система. Он требует развитости, знаний и определенной свободы, чтобы не стесняться признаваться в своей расположенности к этой системе, не бояться показаться недостаточно демократичным, недостаточно таким, как все.
Безусловно, в классике есть имперские компоненты. Слово «тоталитарный» здесь лишнее, это последствие ХХ века, а для классицизма, существующего с древнегреческих времен, век — очень короткий отрезок. Но то, что эта система основана на непровинциальных культурных традициях, это точно. Я имперское в данном случае воспринимаю как мультинациональное, как соединяющее в себе множество культур внутри цельной, стройной, принятой всеми этими культурами системы. В этом смысле имперское как символ культурного котла Британской империи, Российской империи — родовая черта классицизма.
Михаил Филиппов: Имперский и тоталитарный — два разных типа сознания. Тоталитаризм имеет отношение только к ХХ веку. Тоталитаризм во всех формах, где бы он ни возникал, был реакцией на коммерческо-буржуазное общество потребления. Вся идеология Серебряного века является решительной попыткой сопротивляться наступающему капитализму. Это восстание аристократии против эстетики рынка, выразившейся в беспределе эклектики и модерна. У Грабаря есть про это книга «Искусство в плену». Серебряный век не очень серьезно, ностальгически взывал к большому государственному управлению искусством. Александр Бенуа на съезде художников мечтает об александровском времени, которое имело большой стиль — ампир, о государственном управлении. Для этого надо устроить культурную революцию, чтобы ничего, кроме большого стиля, не было. Самое трагическое, что сталинизм, его культурная программа — это осуществление культурной программы Серебряного века.
Но так как была выключена самая главная составляющая — христианство, и так как культурная революция осуществлялась под знаменем демократического атеизма, эта культурная программа превратилась в тоталитаризм. Как у нас, так и в Германии.
Кто заказчик классики
Мы зализываем раны, нанесенные революцией, восстанавливаем потерянный уклад — буржуазный, а кто-то, возможно, и аристократический. Не все сразу получается. Наши коттеджные поселки — мишени для острот, но это смех сквозь слезы. Стилистическая карта выглядит так:
Михаил Тумаркин: Понятных классических домов, как и понятных модернистских, мало — по 2–3%. Чистые классика и модернизм — это «меньшинства». Остальные 94% представляют жутковатую смесь: то ли армянский поселок, то ли литовская деревня. Этому мейнстриму трудно подобрать название, я бы его определил как невыразимую беспрецедентность.
К классике тяготеют люди не обязательно очень рафинированные, но с твердой системой ценностей, с ориентацией на перспективу, на семью, на выстраивание преемственности поколений и передачу наследства детям — в общем, на традиционные ценности (вне религиозной морали). Но надо честно сказать, что иногда к такому заказу приводит и культурная неопытность, поскольку классическая традиция — это самое ясное, на что можно опереться. И человек не робкий, он не боится прослыть ретроградом, но боится промахнуться, он желает организовать все прилично, дорого, культурно, чтобы деньги говорили о себе, чтоб люди не смеялись и чтоб удобно жить было, — такой человек заказывает классику. Возраст — сложный критерий. У меня были и очень молодые клиенты, и среднего возраста, и постарше. Профессию заказчика классики определить в нашем разложенном обществе невозможно.
Максим Куренной: Классика нужна тем, кому за пятьдесят, или для специальных архитекторов. Она привлекает тех клиентов, которые не хотят попасть впросак. У нас страна страшно закомплексованных людей. Им требуются средства для того, чтобы комплексы преодолевать, они не уверены в себе. Клиенты за пятьдесят начинают сомневаться в собственном вкусе. И им необходимо знать: то, что они имеют, безусловно хорошо. А в этом отношении классика вещь проверенная.
Михаил Филиппов: Классику заказывает человек, который не заражен иллюзиями большого арта. Таких большинство. Для того чтобы узнать, в чем заключается модернистская идея, надо долго вариться в этом котле, что делают немногие. Строят сейчас, чтобы вложить куда-то деньги. И коммерческие граждане интуитивно чувствуют, даже без всяких оценок стиля, что современная архитектура — очень подверженное моде изделие, оно по определению таково. А в классике есть свойство, понятное и непрофессионалу: она и через сто лет будет иметь ценность.
Михаил Тумаркин: Глубокое заблуждение, что построить навороченный модернистский дом легче, чем классический. А уж деконструктивистские дома почти никто не может построить. Все стекляшки в мире текут. Во всех не решены проблемы с климатизацией, поскольку там подавляющее большинство материалов аллергенные, синтетические, воздухообмен, как правило, искусственный. Модернистские дома быстро и некрасиво стареют. Жизнь классического дома из традиционных материалов во много раз дольше, и реставрировать его легче.
Классический архитектор: творец или продавец?
На Западе чистой классики и чистого модернизма тоже мало, но основная масса там — не кич, а вернакуляр, т.е. дома в местных традициях. Хотя революции у них не было и ничто насильственно не прерывалось, классика там находится в резервации. У классицистов отдельные вузы и отдельные выставки.
Курт Форстер (объясняя, почему нет классической архитектуры на Венецианской биеннале): Меня интересует только новое, изменения, а классика — это попытка импортировать прошлое в настоящее. Я понимаю, что некоторые люди любят здания банков с колоннами и портиками. Но я не считаю эти здания архитектурным жестом, это жест социальный.
Это расхожее обвинение и на Западе, и у нас. Куратор Юрий Аввакумов выразил этот взгляд, назвав модерниста творцом, а классика — продавцом.
Михаил Филиппов: Архитектор может быть и творцом и продавцом — в зависимости от таланта. Классическая архитектура — это сознательно принятая несвобода, то есть свобода творчества в установленных канонических рамках, которая открывает, как мы знаем, настоящий творческий потенциал. Творец только тогда творец, когда он несвободен в форме. История архитектуры ХХ века свидетельствует, что свобода формотворчества порождает унифицированность, угнетает художественную личность, превращая искусство, по словам того же Бенуа, в базар грошовых индивидуальностей. Сравнение некорректно-жесткое, но это то же самое, как если бы человек решил нарушить все заповеди и считал себя свободным, в отличие от «жалкого раба», который живет по заповедям. Эти творцы все похожи друг на друга, как заключенные одного творческого концлагеря. Единственное, что они хорошо замечают, — разницу между старой архитектурой и современной. Это действительно разные жанры. Современная архитектура ближе к дизайну. К сожалению, классика и реалистическое искусство уже давно находятся вне актуальных проблем большого искусства. Они, конечно, в достойном положении, потому что всегда есть люди, которые хотят, чтобы портрет дочери был похож на дочь. Но поскольку вся большая эстетика ушла в сферу неэстетического поиска, то классическому искусству осталась роль коммерческого кича. Еще одно некорректное сравнение: в ХХ веке церковное искусство во всем мире стало уделом кича, а в нашей стране — уделом пригородной деревенско-бабушкиной эстетики. Почему? Тут вина самого искусства, потому что из среды, где оно могло бы черпать жизнь и красоту, оно удаляется в другую сферу и тихо погибает в этой пустыне. Это свидетельствует об очень глубоком кризисе. Ту точку зрения, что модернисты — творцы, а классики — продавцы, разделяет 99% профессионалов. Что вовсе не значит, что это истина. Известны случаи, когда истину знал один человек на всю вселенную.
Михаил Тумаркин: На эти обвинения модернистов можно только нецензурную фразу произнести или в глаз дать. Это откровенная беззастенчивая ложь от осознания безнадежности дела, которым они занимаются. Впрочем, иной раз и люди с серьезным академическим статусом говорят то же самое. Любимая тирада г-на Хан-Магомедова, исследователя конструктивизма: из разговора о современной архитектуре надо исключить архитектуру в стилях, поскольку это не творчество, а коммерческое воспроизведение шаблонов. Он чуть более культурно говорит то, что другие произносят сбивчиво и по-пацански. С теоретической точки зрения, творческое выражение возможно в любой системе профессиональных координат, ровно в той же степени, в какой возможно эпигонское или беспомощное выражение. Первична не система, которой пользуется архитектор, а его способность генерировать эстетические ценности. Краеугольным камнем модернизма является утверждение, будто новация сверхценна, а традиционность — ретроградна. Если стать на эту точку зрения, тогда, конечно, в рамках традиционной эстетики любые высказывания вторичны, а поскольку рынок их приемлет, то они обоснованы коммерчески, и больше никак. А любые высказывания, которые находятся в канве модного тренда, ценны просто потому, что они претендуют на новации. Но это так, если принимать первую посылку, — а тут уж дело выбора. Серьезного анализа эта точка зрения не выдерживала никогда, даже когда была выдвинута.
Две крайности
Питер Айзенман: Никаких классических вилл, симметричных планов, портиков с колоннами больше быть не может! Для Палладио человеческое тело, его симметрия, были основой архитектуры. Но тело мы теперь понимаем иначе. Мы знаем, что ДНК несимметрична и что конфигурация этой молекулы, отвечающей за развитие человека, весьма причудлива. Тело в старом смысле больше не является мерилом для архитектуры! Есть другие измерения. Моя архитектура со сдвинутыми планами отражает сознание современного человека. Это современный дух, который ни на чем не настаивает и обо всем спрашивает, который не верит в истину, добро и красоту, но ставит их под вопрос. Архитектура современности должна следовать за философией, за наукой, за действиями человека. Человеческое в архитектуре состоит не в демонстрации метафизического центра (возвращение к нему невозможно), а в том, чтобы сделать людей счастливыми, оформить их жизнь. А это значит спросить их, какой она должна быть. Вот что такое новая человечность.
Деметрий Порфириос: Я уверен, что реальный вклад архитектора состоит в том, чтобы правильно выбрать, что заимствовать. Ренессансный архитектор Альберти подражал античности, но его вещи не похожи на античность: другие технологии, другая политика, другая мода. Похож только принцип: польза, прочность, красота. Для частного дома этот принцип вечен. Архитектура не имеет ничего общего с «манией новизны», правящей в современном искусстве. В отличие от искусства, она не может позволить себе цинизм и иронию. Люди всегда стремятся жить в добротном и красивом доме. Да, времена меняются, архитектор обязан обновлять то, что необходимо обновлять. Но поскольку классическая традиция бесконечно разнообразна, она вечно длится. Нет ничего нового, что было бы добрым, и ничего доброго, что было бы новым.

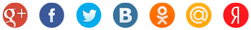 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments