18.01.2007
Владимир Белоголовский //
Современный дом, 18.01.2007
Московские классики
 «Римский дом» Михаила Филиппова в Казачьем переулке
«Римский дом» Михаила Филиппова в Казачьем переулкеинформация:
-
где:
Россия. Москва
Расположившись перед экраном компьютера в моей нью-йоркской квартире, я увлеченно разглядываю многие сотни отснятых кадров, сделанных во время московской поездки. Они помогают оживить в памяти любопытные кварталы этого удивительного города. Мне хотелось бы поделиться с читателем наблюдениями человека давно живущего в другой культуре, в окружении другой архитектуры и других людей. Не буду сравнивать, что было и что стало. Ностальгия ностальгией, а все же раньше было одно, а теперь – другое. Здесь так, а там иначе.
Все правильно. Но в этом то и дело, что в сегодняшней Москве не просто разобрать, что было раньше и что появилось совсем недавно. Ведь за последние годы здесь возникло множество зданий, реанимированных из разных эпох. Восстановлены храмы, часовни, колокольни, усадьбы. Наверное, это важно, если речь идет о восстановлении отдельных, тщательно отобранных шедевров. Однако исторических новостроек так много, что появляется некоторое недоверие и к оригиналам. А ведь при восстановлении исторических зданий не только используются современные методы строительства и материалы, но и интерпретации первоначальных замыслов, чуждые самой идее реконструкции исторического памятника. Подобные манипуляции не только мешают адекватному прочтению истории, но и несут определенную опасность. Ведь если сегодня историю можно перестроить, то завтра ее, возможно, захотят и пересказать.
Интересно же другое – игры в историю превратились в Москве в столь обыденное дело, что здесь появились архитекторы, которые лихо заворачивают свои здания в “исторические” фасады, подобно тому, как актеры переодеваются в костюмы разных времен и народов. В этом многоголосье образовался даже некий стиль, который прозвали не иначе, как новой классикой. Ее авторы верят в непрерывность классической традиции, в роль классики как носителя вечных истин, и вообще в бесконечность ее развития.
По признанию многих архитекторов, их отказ от чистых модернистских форм, и возвращение к классике вызваны пресловутой скукой. Это и понятно, мы живем в очень оживленное и динамичное время и то, что восторгало наших предков, кажется сегодня неинтересным и статичным. Экспериментальные и провокационные формы быстро приедаются и не удивительно, что архитекторы обращаются за вдохновением как к будущему, которое можно только вообразить, так и к прошлому, которое можно не только скопировать, но и интерпретировать. Другими словами классика может быть также бесконечна в своих проявлениях, как и изобретательство чего-то совершенно нового.
Любая архитектура ценна своей открытостью к развитию и трансформации, а не скрупулезным, а тем более небрежным цитированием примеров прошлого. Главное же, как мне кажется, в архитектуре не только достичь нового персонифицированного стиля, но и найти формы реагирования на вызовы современности. Именно так развивается наука, техника и даже искусство. Эволюция облика таких утилитарных вещей как телефона, компьютера, автомобиля или музыкального проигрывателя, возможно, более наглядные примеры неизбежной модернизации всего, что нас окружает. Однако подобной трансформации подвержена и архитектура. Можно комфортно обустроить любой исторический особняк, но зачем в наше технологическое время строить комфортное жилье в виде старинного особняка?
Авторы новой московской классики, похоже, не задают подобные вопросы вовсе. Кажется, они отвлеченно от всего на свете стремятся добиться в своей архитектуре извечного чувства красоты. Актуально ли такое понятие сегодня? Да и что такое красота в современной архитектуре? Возможно, архитекторы слишком долго беспрекословно верили риторике австрийского архитектора и теоретика Адольфа Лооса пропагандирующего в самом начале 20-го века красоту чистых форм и преступность использования орнаментов и нефункционального декора. Может быть, но это лишь подтверждает, что понятие красоты постоянно подвержено трансформации и переосмыслению.
В России 20-й век оказался необычайно богат на резкие перепады в архитектурных вкусах. Так конструктивизм – мощнейший эксперимент новой динамичной архитектуры, рожденный на опыте европейского модернизма и совпавший по времени с социальной революцией серьезно повлиял на развитие всей мировой архитектуры. Впрочем, у себя на родине этот эксперимент продолжался не долго. В 1932 году советским архитекторам были предписаны эксперименты исключительно с классикой, официальной архитектурой социалистического реализма. А в 1955 году постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР “Об устранении излишеств в проектировании и строительстве” модернизм опять стал главным и единственным стилем в СССР.
На Западе же увлечение чистыми формами продолжалось до 70-х годов прошлого века. Постепенно идеология отошла на второй план, а архитектуру модернизма упростили по экономическим соображениям, поставив ее на конвейер. За многие годы возведения однообразного и скучного строительства образовались целые поселки и города, где непродуманная архитектура даже стала негативно влиять на поведение людей в социуме. От всеобщего уныния, казалось, могло спасти только возвращение к орнаментам и символическим формам. Они стали возникать подобно цветочкам и ягодкам – в виде навеянных классикой театрализованных и даже ироничных композиций, а иногда и самых незатейливых аппликациях, буквально приклеенных поверх модернистских конструкций-этажерок.
В 1966 году в своей книге-манифесте “Complexity and Contradiction in Architecture” (Сложности и противоречия в архитектуре) американец Роберт Вентури взял на себя смелость заявить всем остальным: “Архитекторы больше не должны трепетать перед пуританским и моральным языком ортодоксальной модернистской архитектуры. Я предпочитаю элементы гибридные – пуристским, компромиссные – “чистым”, искаженные – прямолинейным и непоследовательные – логичным. Я за беспорядочную жизненность, а не за очевидное единство. Я предпочитаю и то и другое, а не одно или другое; белое, черное и иногда серое, а не белое или черное”. Вывернув наизнанку первую заповедь крестного отца модернизма Миса ван дер Роэ – “Less is more” Вентури выносит свой собственный ироничный вердикт: “Less is a bore” (чем меньше, тем скучнее). Тем самым он развязал руки последующим поколениям современных зодчих, которые получили право на индивидуальную и экспериментальную архитектуру без правил.
Прошло еще двадцать лет, прежде чем архитекторы признали, что такая архитектура, которую сегодня принято называть постмодернистской, пошла по ложному пути. На смену понастроенным в 80-е годы причудливым постройкам в пастельных тонах в моду вернулись рафинированные модернистские формы. Но на этот раз они обогатились сложными, даже деконструктивистскими и разработанными на компьютере композициями с характерными поверхностями-обертками, демонстрирующими новые оригинальные материалы и облицовки. Грани между архитектурой, ландшафтом и искусством стали стираться, порождая необычные гибридные формы.
В то время как на Западе развитие модернизма оказалось прервано увлечением ироничным постмодернизмом, в России типовое модернистское строительство продолжалось до начала 90-х годов. Поэтому неудивительно, что с развалом Советского Союза именно классика, а точнее пародия на нее оказалась востребованной соскучившимися по красивой архитектуре (с узорами и капителями) заказчиками. Многие из этих построек сотворены неумело и незатейливо, следуя идее возрождения московского эклектизма. Такую архитектуру принято называть лужковской. Однако создали ее конкретные архитекторы, и им тоже придется отвечать перед историей. Лишь совсем недавно стали появляться отдельные классические сооружения, о которых всерьез заговорила профессиональная критика.
Заглянем в Филипповский переулок. Здесь архитектор Михаил Белов
построил в прошлом году свой “Помпейский дом”. Бытует мнение, будто это самое
красивое здание в Москве. Честно говоря, с храмом Василия Блаженного
(зодчим, которого Иван Грозный выколол глаза, да не повторили бы они подобной красоты ни для кого другого), дом Белова я бы рядом не поставил. Но я и не сравниваю. Существует такое понятие как контекст, сохранение и формирование которого часто ценнее, чем экспрессивность отдельных зданий. Так, через дорогу от “Помпейского дома” стоит крошечный храм Св. Филиппа апостола, именем которого и назван переулок. Так почему же архитектор многоквартирного жилого дома, посчитал возможным тягаться в красоте с храмом, чей купольный крест приходится на середину высоты нового здания? Ответ прост – Белов рассматривает городской контекст не больше, чем как игру, как театр. А в театре, как известно, нагнетание драматизма только поощряется.
Подтверждением театральности архитектуры Белова служит интерьер его галереи в здании Средних торговых рядов. Отрезанный от улицы торжественно кукольный зал, где на продажу выставлены ювелирные изделия, напоминает драгоценную шкатулку, изнутри богато обитую красным бархатом и украшенную золотой бахромой с кистями-колокольчиками и золочеными коринфскими капителями. А вокруг – залитое наружным светом и полностью выдержанное во всем белом аскетичное пространство, под сводами которого возвышение одной из колонн прерывается абстрактным перекрестием двух идущих в никуда балок. Такой сильный стилевой и концептуальный контраст в пределах одного проекта оказался весьма эффектным интерьерным решением.
Резюмируя статью о работах Белова, Григорий Ревзин подчеркивает: ”Это мир чистой архитектурной сказки, которая рассказывает не про то, как должно быть, а как быть не может, но очень хочется. Потому что так красиво, так легко, так празднично!” Казалось бы, нужно радоваться за такую праздничную архитектуру. Однако такой подход предполагает странное соперничество архитектуры с таким неравным ей зрелищным понятием как театральное представление.
Если первые два примера можно отнести к эклектической или сказочной классике, то необходимо отметить и пример другой – фантастической классики. Речь о “Римском доме” Михаила Филиппова во 2-м Казачьем переулке. На первый взгляд здесь все как в старые добрые времена – знакомые правильные композиции, убедительные пропорции, нижние этажи с крупным рисунком руста, статные своды, простой тосканский ордер, арки, карнизы, ажурные решетки. Всякие объяснения излишни, ведь красота – понятна без слов.
Но стоит заглянуть во двор этого классического дома, как одно противоречие сменяет другое. Здесь находят один на другой фрагменты разных композиций, сталкиваются несоизмеримые масштабы, сбиваются с ритма колонны и выходят из вертикальных строев окна. Привычные для классики статичность и величие трансформируются здесь в динамизм, и даже озорство. Все в этом дворе выглядит, как будто нас окружает не настоящая архитектура, а ее отражение в каком-то кривом зеркале. Зачем понадобилось “обогащать” по сути, конструктивистскую композицию элементами ордерной архитектуры? Зачем было усложнять и расслаивать пространство, зажатое со всех сторон правильной симметричной геометрией?
Все очень просто. Филиппов – великолепный график, гениально чувствующий и представляющий самые изворотливые и сложные пространства. А что может быть лучше для демонстрации таких редких способностей, чем соблазнительные пространственные фантазии, изобилующие детализованной орнаментальной графикой? Однако между графикой и архитектурой есть очень существенная разница. Если рисунки, как тексты, увлекают своей фантастичностью, то архитектура впечатляет своей реалистичностью. Графика Филиппова, так же как и фантастические рисунки Джованни Баттиста Пиранези, Якова Чернихова, Мориса Корнелиуса Эшера или Лебиуса Вудса нужно рассматривать как отдельное искусство. Реализация подобных фантазий лишь конкретизирует и приземляет их потенциал. Строительство “Римского дома” только доказывает, что существует архитектура, сила которой не в реализации, а в идее.
Интересной же ситуация в Москве мне представляется не столько тем, что здесь сегодня популярна классика, а тем что рядом с ней создается архитектура совсем другого качества – модернистская. Такие невероятные стилевые контрасты двух противоборствующих систем, одновременно существующих в одном городе – весьма интересны сами по себе и, наверное, сигнализируют о возможном зарождении чего-то нового, и что ждать этого нового осталось совсем не долго.
Отправимся на Остоженку, один из самых престижных сегодня жилых районов Москвы. Именно здесь сложился настоящий анклав модернизма из нескольких десятков домов, не только отличающихся хорошим качеством строительства, но и образующие единый органичный жилой комплекс. Любопытно, что в городе, где строится так много классики, почему-то самым популярным оказалось модернистское жилье. Видимо, настало время, когда классики вдруг оказалось слишком много. В подобной ситуации что-то контрастное всегда смотрится необычно и привлекательно.
На Остоженке много интересных жилых комплексов достойных внимания, а среди самых привлекательных и чаще других обсуждаемых в прессе выделяется Copper House Сергея Скуратова в Бутиковском переулке. Несмотря на то, что автор повторяет здесь идеи, и даже целые фрагменты хорошо известных на западе архитекторов мне давно хотелось рассмотреть это здание собственными глазами. Я рад, что мне удалось побывать здесь в совершенно безлюдный вечер. И, несмотря на отталкивающее заявление Скуратова в одном из интервью о его пристрастии листать заграничные журналы в поисках новых идей я должен признать необычную органичность и грациозность этого проекта.
Здесь достигнуто качество строительства пока еще очень редко встречающееся в Москве. У меня даже появилось какое-то странное желание не просто вплотную приблизиться к зданию, но и прикоснуться к нему. Фотографии Copper House ровным счетом ничего не передают. Здесь создана очень стильная и замысловатая атмосфера, а главные идеи выражены не в формах, а нюансах подбора каменной и медной кладки, выборе системы остекления и расстановке акцентов отражений и подсветки. Это настоящая феноменологическая архитектура, в которой мастеру удалось очень убедительно создать то, о чем Стивен Холл сказал – “Такая архитектура учитывает движение человека в пространстве и погружение его в многослойный опыт, в котором пространство, свет, цвет, геометрия, запах, звук, поверхности и материалы перекрещиваются”.
И все же, я не смог бы охарактеризовать такую архитектуру как московскую. Дело не в том, что она не смотрится в Москве, а в том, что здесь продемонстрирована не столько инновация сколько стилизация. Я знаю, что Скуратов многое здесь придумал сам, но я тоже знаю, что это уже где-то было. А как хотелось бы почувствовать какое-то отличие в современной архитектуре в Москве от ее проявлений в Лондоне, Роттердаме, Париже или Нью-Йорке.
Мне кажется, нужно начинать с изменений в образовании. Я часто слышу о том, как российские студенты, получив задание спроектировать конкретный объект, тут же обращаются к своим коллегам за помощью найти что-то похожее построенное где-то на Западе. А ведь такой подход отбрасывает все российское зодчество на периферию мировой архитектурной мысли. На Западе все интересные идеи зарождаются в школах и лишь спустя пять, а то и десять лет находят применение в реальных проектах. Поэтому подражание самым передовым реализованным проектам – это на самом деле шаг назад. Только непрерывно изобретая и экспериментируя, архитектура может развиваться. Проектировать же заурядные объекты студенты успеют в реальной жизни.
Другой значительный московский модернистский проект – новый деловой центр с иностранным названием – Сити. Здесь, прежде всего, поражает масштаб и энергия нового строительства. Сегодня такое возможно только в новых быстро растущих мегаполисах. За такими, устремившимися в небеса массивами будущее. Однако строящиеся в ММДЦ “Москва-Сити” изощренные высотки пока мало чем претендуют на отличие от шанхайских, дубайских или парижских?
Исключением стала планирующаяся экологическая башня “Россия” по проекту британца Нормана Фостера. В ней зодчему удалось найти что-то московское. В ее заостренном силуэте проглядывают отголоски сталинских высоток, а устремленные вверх стальные диагонали ассоциируются с лучами звезды или зари и ассоциируются с экспрессивными конструктивистскими решениями. Участие в строительстве такого высококлассного архитектора создаст прецедент для повышения уровня строительства в Москве. Здесь нужна такая мощная башня-камертон, которая покажет сегодняшнюю готовность России к самой сложной и современной экспериментальной архитектуре.
И все же самые сильные впечатления от Москвы я увожу не от новой классики, не модернистских стилизаций, не будущего Сити, не сталинских высоток, не подземных дворцов метро, а от находящихся в руинированном состоянии остатков конструктивизма.
В Москве идут разговоры о необходимости восстановления этих полуразрушенных зданий и о возможности реализации некоторых проектов так и оставшихся на бумаге. А может быть лучше оставить все как есть, и объявить эти уникальные, каких больше нет нигде в мире постройки памятниками и оберегать их, подобно развалинам древних Рима и Афин? Ведь смысл не только в том, чтобы сохранить старые стены, а саму идею и дух эксперементаторства присущего конструктивизму.
Может быть, Москве тоже нужны свои развалины – настоящие, аутентичные, обесцвеченные временем, потрепанные суровым московским климатом и преданные забвению властями? Если власти не способны оценить живую архитектуру, то, возможно, они оценят мертвую. Именно архитектура конструктивизма и есть настоящая московская классика, рожденная не по распоряжению сверху, а в умах и сердцах самобытных художников новаторов – лидеров русского архитектурного авангарда: Гинсбурга, Голосова, Ладовского, Мельникова, Синявского, братьев Весняных и других классиков архитектуры 20-го века. Руины конструктивизма необходимо сохранить для будущих поколений архитекторов, которые, возможно, тоже изобретут новую классику архитектуры будущего.
Комментарии Интересно же другое – игры в историю превратились в Москве в столь обыденное дело, что здесь появились архитекторы, которые лихо заворачивают свои здания в “исторические” фасады, подобно тому, как актеры переодеваются в костюмы разных времен и народов. В этом многоголосье образовался даже некий стиль, который прозвали не иначе, как новой классикой. Ее авторы верят в непрерывность классической традиции, в роль классики как носителя вечных истин, и вообще в бесконечность ее развития.
По признанию многих архитекторов, их отказ от чистых модернистских форм, и возвращение к классике вызваны пресловутой скукой. Это и понятно, мы живем в очень оживленное и динамичное время и то, что восторгало наших предков, кажется сегодня неинтересным и статичным. Экспериментальные и провокационные формы быстро приедаются и не удивительно, что архитекторы обращаются за вдохновением как к будущему, которое можно только вообразить, так и к прошлому, которое можно не только скопировать, но и интерпретировать. Другими словами классика может быть также бесконечна в своих проявлениях, как и изобретательство чего-то совершенно нового.
Любая архитектура ценна своей открытостью к развитию и трансформации, а не скрупулезным, а тем более небрежным цитированием примеров прошлого. Главное же, как мне кажется, в архитектуре не только достичь нового персонифицированного стиля, но и найти формы реагирования на вызовы современности. Именно так развивается наука, техника и даже искусство. Эволюция облика таких утилитарных вещей как телефона, компьютера, автомобиля или музыкального проигрывателя, возможно, более наглядные примеры неизбежной модернизации всего, что нас окружает. Однако подобной трансформации подвержена и архитектура. Можно комфортно обустроить любой исторический особняк, но зачем в наше технологическое время строить комфортное жилье в виде старинного особняка?
Авторы новой московской классики, похоже, не задают подобные вопросы вовсе. Кажется, они отвлеченно от всего на свете стремятся добиться в своей архитектуре извечного чувства красоты. Актуально ли такое понятие сегодня? Да и что такое красота в современной архитектуре? Возможно, архитекторы слишком долго беспрекословно верили риторике австрийского архитектора и теоретика Адольфа Лооса пропагандирующего в самом начале 20-го века красоту чистых форм и преступность использования орнаментов и нефункционального декора. Может быть, но это лишь подтверждает, что понятие красоты постоянно подвержено трансформации и переосмыслению.
В России 20-й век оказался необычайно богат на резкие перепады в архитектурных вкусах. Так конструктивизм – мощнейший эксперимент новой динамичной архитектуры, рожденный на опыте европейского модернизма и совпавший по времени с социальной революцией серьезно повлиял на развитие всей мировой архитектуры. Впрочем, у себя на родине этот эксперимент продолжался не долго. В 1932 году советским архитекторам были предписаны эксперименты исключительно с классикой, официальной архитектурой социалистического реализма. А в 1955 году постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР “Об устранении излишеств в проектировании и строительстве” модернизм опять стал главным и единственным стилем в СССР.
На Западе же увлечение чистыми формами продолжалось до 70-х годов прошлого века. Постепенно идеология отошла на второй план, а архитектуру модернизма упростили по экономическим соображениям, поставив ее на конвейер. За многие годы возведения однообразного и скучного строительства образовались целые поселки и города, где непродуманная архитектура даже стала негативно влиять на поведение людей в социуме. От всеобщего уныния, казалось, могло спасти только возвращение к орнаментам и символическим формам. Они стали возникать подобно цветочкам и ягодкам – в виде навеянных классикой театрализованных и даже ироничных композиций, а иногда и самых незатейливых аппликациях, буквально приклеенных поверх модернистских конструкций-этажерок.
В 1966 году в своей книге-манифесте “Complexity and Contradiction in Architecture” (Сложности и противоречия в архитектуре) американец Роберт Вентури взял на себя смелость заявить всем остальным: “Архитекторы больше не должны трепетать перед пуританским и моральным языком ортодоксальной модернистской архитектуры. Я предпочитаю элементы гибридные – пуристским, компромиссные – “чистым”, искаженные – прямолинейным и непоследовательные – логичным. Я за беспорядочную жизненность, а не за очевидное единство. Я предпочитаю и то и другое, а не одно или другое; белое, черное и иногда серое, а не белое или черное”. Вывернув наизнанку первую заповедь крестного отца модернизма Миса ван дер Роэ – “Less is more” Вентури выносит свой собственный ироничный вердикт: “Less is a bore” (чем меньше, тем скучнее). Тем самым он развязал руки последующим поколениям современных зодчих, которые получили право на индивидуальную и экспериментальную архитектуру без правил.
Прошло еще двадцать лет, прежде чем архитекторы признали, что такая архитектура, которую сегодня принято называть постмодернистской, пошла по ложному пути. На смену понастроенным в 80-е годы причудливым постройкам в пастельных тонах в моду вернулись рафинированные модернистские формы. Но на этот раз они обогатились сложными, даже деконструктивистскими и разработанными на компьютере композициями с характерными поверхностями-обертками, демонстрирующими новые оригинальные материалы и облицовки. Грани между архитектурой, ландшафтом и искусством стали стираться, порождая необычные гибридные формы.
В то время как на Западе развитие модернизма оказалось прервано увлечением ироничным постмодернизмом, в России типовое модернистское строительство продолжалось до начала 90-х годов. Поэтому неудивительно, что с развалом Советского Союза именно классика, а точнее пародия на нее оказалась востребованной соскучившимися по красивой архитектуре (с узорами и капителями) заказчиками. Многие из этих построек сотворены неумело и незатейливо, следуя идее возрождения московского эклектизма. Такую архитектуру принято называть лужковской. Однако создали ее конкретные архитекторы, и им тоже придется отвечать перед историей. Лишь совсем недавно стали появляться отдельные классические сооружения, о которых всерьез заговорила профессиональная критика.
Заглянем в Филипповский переулок. Здесь архитектор Михаил Белов
построил в прошлом году свой “Помпейский дом”. Бытует мнение, будто это самое
красивое здание в Москве. Честно говоря, с храмом Василия Блаженного
(зодчим, которого Иван Грозный выколол глаза, да не повторили бы они подобной красоты ни для кого другого), дом Белова я бы рядом не поставил. Но я и не сравниваю. Существует такое понятие как контекст, сохранение и формирование которого часто ценнее, чем экспрессивность отдельных зданий. Так, через дорогу от “Помпейского дома” стоит крошечный храм Св. Филиппа апостола, именем которого и назван переулок. Так почему же архитектор многоквартирного жилого дома, посчитал возможным тягаться в красоте с храмом, чей купольный крест приходится на середину высоты нового здания? Ответ прост – Белов рассматривает городской контекст не больше, чем как игру, как театр. А в театре, как известно, нагнетание драматизма только поощряется.
Подтверждением театральности архитектуры Белова служит интерьер его галереи в здании Средних торговых рядов. Отрезанный от улицы торжественно кукольный зал, где на продажу выставлены ювелирные изделия, напоминает драгоценную шкатулку, изнутри богато обитую красным бархатом и украшенную золотой бахромой с кистями-колокольчиками и золочеными коринфскими капителями. А вокруг – залитое наружным светом и полностью выдержанное во всем белом аскетичное пространство, под сводами которого возвышение одной из колонн прерывается абстрактным перекрестием двух идущих в никуда балок. Такой сильный стилевой и концептуальный контраст в пределах одного проекта оказался весьма эффектным интерьерным решением.
Резюмируя статью о работах Белова, Григорий Ревзин подчеркивает: ”Это мир чистой архитектурной сказки, которая рассказывает не про то, как должно быть, а как быть не может, но очень хочется. Потому что так красиво, так легко, так празднично!” Казалось бы, нужно радоваться за такую праздничную архитектуру. Однако такой подход предполагает странное соперничество архитектуры с таким неравным ей зрелищным понятием как театральное представление.
Если первые два примера можно отнести к эклектической или сказочной классике, то необходимо отметить и пример другой – фантастической классики. Речь о “Римском доме” Михаила Филиппова во 2-м Казачьем переулке. На первый взгляд здесь все как в старые добрые времена – знакомые правильные композиции, убедительные пропорции, нижние этажи с крупным рисунком руста, статные своды, простой тосканский ордер, арки, карнизы, ажурные решетки. Всякие объяснения излишни, ведь красота – понятна без слов.
Но стоит заглянуть во двор этого классического дома, как одно противоречие сменяет другое. Здесь находят один на другой фрагменты разных композиций, сталкиваются несоизмеримые масштабы, сбиваются с ритма колонны и выходят из вертикальных строев окна. Привычные для классики статичность и величие трансформируются здесь в динамизм, и даже озорство. Все в этом дворе выглядит, как будто нас окружает не настоящая архитектура, а ее отражение в каком-то кривом зеркале. Зачем понадобилось “обогащать” по сути, конструктивистскую композицию элементами ордерной архитектуры? Зачем было усложнять и расслаивать пространство, зажатое со всех сторон правильной симметричной геометрией?
Все очень просто. Филиппов – великолепный график, гениально чувствующий и представляющий самые изворотливые и сложные пространства. А что может быть лучше для демонстрации таких редких способностей, чем соблазнительные пространственные фантазии, изобилующие детализованной орнаментальной графикой? Однако между графикой и архитектурой есть очень существенная разница. Если рисунки, как тексты, увлекают своей фантастичностью, то архитектура впечатляет своей реалистичностью. Графика Филиппова, так же как и фантастические рисунки Джованни Баттиста Пиранези, Якова Чернихова, Мориса Корнелиуса Эшера или Лебиуса Вудса нужно рассматривать как отдельное искусство. Реализация подобных фантазий лишь конкретизирует и приземляет их потенциал. Строительство “Римского дома” только доказывает, что существует архитектура, сила которой не в реализации, а в идее.
Интересной же ситуация в Москве мне представляется не столько тем, что здесь сегодня популярна классика, а тем что рядом с ней создается архитектура совсем другого качества – модернистская. Такие невероятные стилевые контрасты двух противоборствующих систем, одновременно существующих в одном городе – весьма интересны сами по себе и, наверное, сигнализируют о возможном зарождении чего-то нового, и что ждать этого нового осталось совсем не долго.
Отправимся на Остоженку, один из самых престижных сегодня жилых районов Москвы. Именно здесь сложился настоящий анклав модернизма из нескольких десятков домов, не только отличающихся хорошим качеством строительства, но и образующие единый органичный жилой комплекс. Любопытно, что в городе, где строится так много классики, почему-то самым популярным оказалось модернистское жилье. Видимо, настало время, когда классики вдруг оказалось слишком много. В подобной ситуации что-то контрастное всегда смотрится необычно и привлекательно.
На Остоженке много интересных жилых комплексов достойных внимания, а среди самых привлекательных и чаще других обсуждаемых в прессе выделяется Copper House Сергея Скуратова в Бутиковском переулке. Несмотря на то, что автор повторяет здесь идеи, и даже целые фрагменты хорошо известных на западе архитекторов мне давно хотелось рассмотреть это здание собственными глазами. Я рад, что мне удалось побывать здесь в совершенно безлюдный вечер. И, несмотря на отталкивающее заявление Скуратова в одном из интервью о его пристрастии листать заграничные журналы в поисках новых идей я должен признать необычную органичность и грациозность этого проекта.
Здесь достигнуто качество строительства пока еще очень редко встречающееся в Москве. У меня даже появилось какое-то странное желание не просто вплотную приблизиться к зданию, но и прикоснуться к нему. Фотографии Copper House ровным счетом ничего не передают. Здесь создана очень стильная и замысловатая атмосфера, а главные идеи выражены не в формах, а нюансах подбора каменной и медной кладки, выборе системы остекления и расстановке акцентов отражений и подсветки. Это настоящая феноменологическая архитектура, в которой мастеру удалось очень убедительно создать то, о чем Стивен Холл сказал – “Такая архитектура учитывает движение человека в пространстве и погружение его в многослойный опыт, в котором пространство, свет, цвет, геометрия, запах, звук, поверхности и материалы перекрещиваются”.
И все же, я не смог бы охарактеризовать такую архитектуру как московскую. Дело не в том, что она не смотрится в Москве, а в том, что здесь продемонстрирована не столько инновация сколько стилизация. Я знаю, что Скуратов многое здесь придумал сам, но я тоже знаю, что это уже где-то было. А как хотелось бы почувствовать какое-то отличие в современной архитектуре в Москве от ее проявлений в Лондоне, Роттердаме, Париже или Нью-Йорке.
Мне кажется, нужно начинать с изменений в образовании. Я часто слышу о том, как российские студенты, получив задание спроектировать конкретный объект, тут же обращаются к своим коллегам за помощью найти что-то похожее построенное где-то на Западе. А ведь такой подход отбрасывает все российское зодчество на периферию мировой архитектурной мысли. На Западе все интересные идеи зарождаются в школах и лишь спустя пять, а то и десять лет находят применение в реальных проектах. Поэтому подражание самым передовым реализованным проектам – это на самом деле шаг назад. Только непрерывно изобретая и экспериментируя, архитектура может развиваться. Проектировать же заурядные объекты студенты успеют в реальной жизни.
Другой значительный московский модернистский проект – новый деловой центр с иностранным названием – Сити. Здесь, прежде всего, поражает масштаб и энергия нового строительства. Сегодня такое возможно только в новых быстро растущих мегаполисах. За такими, устремившимися в небеса массивами будущее. Однако строящиеся в ММДЦ “Москва-Сити” изощренные высотки пока мало чем претендуют на отличие от шанхайских, дубайских или парижских?
Исключением стала планирующаяся экологическая башня “Россия” по проекту британца Нормана Фостера. В ней зодчему удалось найти что-то московское. В ее заостренном силуэте проглядывают отголоски сталинских высоток, а устремленные вверх стальные диагонали ассоциируются с лучами звезды или зари и ассоциируются с экспрессивными конструктивистскими решениями. Участие в строительстве такого высококлассного архитектора создаст прецедент для повышения уровня строительства в Москве. Здесь нужна такая мощная башня-камертон, которая покажет сегодняшнюю готовность России к самой сложной и современной экспериментальной архитектуре.
И все же самые сильные впечатления от Москвы я увожу не от новой классики, не модернистских стилизаций, не будущего Сити, не сталинских высоток, не подземных дворцов метро, а от находящихся в руинированном состоянии остатков конструктивизма.
В Москве идут разговоры о необходимости восстановления этих полуразрушенных зданий и о возможности реализации некоторых проектов так и оставшихся на бумаге. А может быть лучше оставить все как есть, и объявить эти уникальные, каких больше нет нигде в мире постройки памятниками и оберегать их, подобно развалинам древних Рима и Афин? Ведь смысл не только в том, чтобы сохранить старые стены, а саму идею и дух эксперементаторства присущего конструктивизму.
Может быть, Москве тоже нужны свои развалины – настоящие, аутентичные, обесцвеченные временем, потрепанные суровым московским климатом и преданные забвению властями? Если власти не способны оценить живую архитектуру, то, возможно, они оценят мертвую. Именно архитектура конструктивизма и есть настоящая московская классика, рожденная не по распоряжению сверху, а в умах и сердцах самобытных художников новаторов – лидеров русского архитектурного авангарда: Гинсбурга, Голосова, Ладовского, Мельникова, Синявского, братьев Весняных и других классиков архитектуры 20-го века. Руины конструктивизма необходимо сохранить для будущих поколений архитекторов, которые, возможно, тоже изобретут новую классику архитектуры будущего.
«Помпейский дом» Михаила Белова
Развалины дома Моисея Гинзбурга (дом Наркомфина)
Новая классика в сердце Москвы (Манежная площадь)

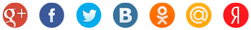 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments


