01.07.2004
Жанна Васильева //
Журнал «Креатив&creativity», 01.07.2004, №16-17
Хранитель утопий. Жанна Васильева
информация:
-
где:
Россия. Москва -
архитектор:
Юрий Аввакумов
Аввакумов – архитектор, не чурающийся изобразительного искусства, художник, предпочитающий кисти работу со словом, куратор, фотограф.: В общем, человек, создающий свой мир на пограничных территориях, которые еще недавно казались ничейными и необитаемыми.
Ж.В. - Вы были организатором первой выставки “Бумажная архитектура” в 1984 в журнале “Юность”. Как возникла ее идея? Это был чисто концептуальный ход?
Ю.А. - Нет. Первая выставка появилась потому, что у архитекторов в то время выставок не было вообще. А показывать было что, например, проекты, которые мы уже три года как посылали на западные концептуальные конкурсы и получали (к всеобщему изумлению) премии. С этой выставки началась моя кураторская деятельность, хотя именем "куратор" я не пользовался чуть не до середины 90-х – мне казалось, что все, чем я занимаюсь: почтамт, списки, слайды, письма, лекции и прочая рутина – это просто общественная обязанность.
Ж.В. - Бумажная архитектура привязана если не к местности, то ко времени?
Ю.А. - В некотором смысле, да. К началу перестройки бумажная архитектура, как концептуальный жанр, развиваться перестала. Выставки еще продолжались, а архитектурного развития почти не было. Поскольку поисковой архитектурой, можно заниматься либо от безысходности, либо, наоборот, от хорошей жизни – последние лет 15 ею у нас никто не занимается. Безысходности нет, но и хорошей жизни пока не наступило. С начала 90-х большинство бумажников занялось реальной практикой, стало создавать свои бюро… А в конкурсах перестали участвовать еще раньше, в 88-м. В 1992 году, когда сборная выставка “Бумажной архитектуры”, объездив полмира, вернулась домой, в Московском архитектурном институте, нашей alma mater прошла прощальная выставка. Это были ее похороны. Тогда же всю коллекцию приобрел банк “Столичный”, а в прошлом году г-н Смоленский подарил ее Государственному Русскому музею. Бумажная архитектура перешла в архив истории искусства, что меня, конечно, радует. В общем, бумажная архитектура – явление, которое возникло на границах как архитектуры, так и изобразительного искусства. И там же, на этих границах она и осталось.
Ж.В. - Почему не было ничего использовано из тех идей?
Ю.А. - Бумажная архитектура - сублимированный и герметичный жанр. Это не проекты в их проекционной ипостаси, это "проекты проектов", прожекты, говоря по-русски. В них есть энергия, но не заложено позитивной программы реализации. Этим бумажная архитектура отличалась и от своих предшественников 20х и 60х годов, и от концептуальных проектов западных современников. Как Центурии Нострадамуса от Города Солнца Кампанеллы. Чем бумажная архитектура, может быть, мне и дорога. Хотя утверждать, что в проектах, получавших призы от всемирно известных архитекторов, немного архитектурных идей, а только симпатичная графика и литература, могут либо люди от архитектуры далекие, либо, напротив, профессионально завистливые. Можно еще сказать, что мы играли в те времена в замечательный, но все же любительский футбол. А для того, чтобы перейти в лигу профессионалов, требовалось очень многое. В том числе и то, что не зависело от участников тех дворовых соревнований. Я имею в виду целый комплекс профессиональных навыков, строительный, инженерный, искусствоведческий корпус… Полагать, что “проект проекта” должен легко перейти в рабочие чертежи, а потом в натуру, в нашем климате… несколько наивно. Такого не могло быть по определению.
Ж.В. - Можно ли сказать, что бумажная архитектура предвосхищала новые возможности?
Ю.А. - Она использовала поэтическую, пространственную компоненту архитектуры. Использовала образы высокого/низкого, тяжелого/ легкого, темного/светлого, закрытого/прозрачного, то есть такие переживания пространства, которые в человеке заложены с рождения и переживаются им тысячелетиями. В этом смысле бумажная архитектура не предлагала ничего нового, кроме принудительно забытого старого. Предлагала понять, что архитектура ФСБ (фундаментных стеновых блоков) к этим переживаниям никакого отношения не имеет. По тем временам это был сильный этический вызов. Но при этом она только понаслышке знала о строительных технологиях, существующих в другом, более развитом обществе. Поэтому, когда потребовалось ее этические или сугубо художественные мотивы реализовывать, выяснилось, что мало кто к этому готов. Если честно говорить, вообще никто не готов.
Ж.В. - Стилистически архитекторы ориентировались на начало ХХ века?
Ю.А. - Нет. У каждого из участников был свой любимый стиль в истории архитектуры, чей язык он использовал для выражения своих затей. Для кого-то это был модерн, для кого-то, как для меня, - конструктивизм, для кого-то –классицизм. Но повторю еще раз: праязык пространства значил больше, чем язык стиля. И это было важно.
Ж.В. - Ваше обращение к проекту “Русская утопия” тоже было связано с желанием вернуть архитектуре художественное значение?
Ю.А. - Для меня это было кураторским развитием темы бумажной архитектуры. Нужно было найти ей место. Она никак не вписывалась в советскую архитектуру с массовым строительством или дворцами Ленина, а ее участники не вписывались в ряды лауреатов госпремий. Поэтому мне показалось естественным искать ей место среди проектов нереализованных. В результате собирательства такого рода проектов с 250-летним погружением в историю российской архитектуры появился “Депозитарий: Русская утопия”. Оказалось, что исследование фонда утопических, визионерских, поисковых и т.п. проектов позволяет находить среди них свои закономерности.
Ж.В. - Какого рода?
Ю.А. - Так или иначе все эти проекты из прошлого устремлены в будущее. Так или иначе каждый из них по-прежнему может быть реализован. У меня даже появилась теория, что архитекторам (особенно тем, у кого нет собственных затей) надо работать только с фондами чужих проектов. Нужен заказчику классицизм - вот тебе Баженов, нужен конструктивизм - возьми Весниных. В них, не в пример постмодернистским, есть аутентичность.
Ж.В. - Что для вас определяет современность проекта?
Ю.А. - Во-первых, современный архитектурный авангард до недавнего времени работал с конструктивизмом, супрематизмом. Как, например, лауреаты премии Прицкера Заха Хадид и Рэм Кулхаас. Их кумирами были Эль Лисицкий и Леонидов. Во-вторых, для авангардного проекта не бывает стеллажей, на которые его можно сразу уложить при том, что потом они всегда находятся. Ну, а в-третьих, с такой полки проект всегда можно снять, и сама идея реализации забытого проекта может оказаться современной.
Ж.В. - Заманчивая идея. Желающие воплотить ее не нашлись?
Ю.А. - Проблема в том, что для того, чтобы реализовать, скажем, монумент Колумба Мельникова, нужно быть ему конгениальным. "Средний" архитектор способен загубить чужой проект так же, как свой. Да и заказчику тоже нужно быть уровня Гугенхайма. Так что депозитарий оказался и инкубатором и колумбарием одновременно.
Ж.В. - Почему преодоление исторического разрыва, о котором Вы сказали, закончилось очередной архитектурной утопией? Вроде бы мы шли к ситуации рынка, аналогичной мировой.
Ю.А. - В конце 80-х мы оказались у разбитого корыта. И по щучьему велению поменять это корыто на современную стиральную машину оказалось невозможно. Можно машину купить. А механизировать корыто нелепо. Преодоление разрыва - очень долгий процесс. Да, достаточно родиться талантом в России и тренироваться в Америке, чтобы выиграть Уимблдон. В теннисе это возможно. Но не в архитектуре. Можно родиться талантом, получить образование в Америке, вернуться сюда и обнаружить, что играть не с кем, не для кого или не на чем. Сегодня, в отличие от начала ХХ века, мы живем в архитектурной провинции. А прорываться в авангард можно только из первых рядов - не из обоза. Можно было бы что-то извлечь из этнографии. Но, во-первых, вопрос, сохранилась ли она, ведь народное планомерно уничтожалось либо заменялось на сувенирное. Во-вторых, в русской архитектуре нет сильных этнографических мотивов.
Ж.В. - Так уж и нет этнографических мотивов?
Ю.А. - В России была замечательная деревянная архитектура. А все остальное приходило из Византии, Италии, Франции, Германии. Я, например, охотнее поверю, что храм Покрова построен немцами, тем более что есть свидетельства, что за 4 года до строительства этого храма послы Ивана Грозного искали архитектора в Германии, а знаменитые декоративные купола появились позже. Вообще в России всегда работали классные иностранные архитекторы, которые здесь находили новые импульсы для своего творчества. Они, во многом, и создали ту архитектуру, которой принято гордиться как сугубо русской. А самая сильная наша этнография на сегодняшний день – это не матрешки, а Татлин.
Ж.В. - Каким образом Вы перешли от нереализованных проектов к архитектурной фотографии? Появилось желание запечатлеть воплощенные в камень проекты?
Ю.А. - Просто лет пять назад у меня завелась приличная камера. Вот и весь переход. Кроме того, фотография наряду с чертежом наиболее подробно описывает архитектуру. Поэтому я давно фотографией интересовался. И кураторские выставки делал… Потом был проект “24”, растянувшийся на три года. К тому же он был не про архитектуру а про город. Ну какой из Мухина архитектурный фотограф? Или любительские снимки неба над разными городами мира - это архитектура? Святым будет тот архитектор, который уловит взаимосвязь неба и своих зданий. Как Гауди. Я люблю ситуации неочевидного баланса, когда какие-то полярные категории находятся в скрытом равновесии. Допустим, "бумажная архитектура" – это оксюморон, это равновесие между строительным искусством и изобразительным. "Временные монументы", серия моделей-посвящений 20-м – равновесие между памятником и аттракционом. Архитектурная фотография сама по себе содержит противоречие между оптикой света и статикой капитального сооружения, химией печати и физикой разрушения. Мы думаем фотография недолговечна, света боится, больше 150 лет не живет, но не так много в мире архитектуры живущей дольше. И в депозитарии “Русской утопии” было заложено то же единство противоположностей. Вроде есть идея все непостроенное наконец-то построить, а выясняется, что уже и некому. Если научиться проект читать как книгу, если книга хорошая, то зачем из книги еще лить памятник.
Ж.В. - Как с этим желанием работать на границе – границе слова и изображения, макета и визуального искусства, реализованного и нереализованного – Вы обнаружили себя в Архитектурном институте?
Ю.А. - Никакого специального желания служить в погранвойсках актуального искусства у меня не было. Зашел в МАРХИ в день открытых дверей и остался совершенно потрясен. Мне иногда кажется, что я и сейчас там, учусь. И удивляюсь иногда, когда меня зовут архитектором, ведь я ничего не построил.
Ж.В. - Архитектура – изначально точная вещь. Она не может быть приблизительной. С другой стороны, без полета фантазии она тоже бессмысленна. Насколько Вам было интересно соотношение интуитивного и рационального?
Ю.А. - Конечно, интересно. К примеру, оказалось, что круг любимых сюжетов в моих работах жестко ограничен – это леса, лестницы, летчики, пролетарии... Эти слова родом из универсального хлебниковского языка. Между лесами, лестницами и полетами у меня перекинуто довольно много мостиков мифопоэтического свойства. Но сказать, что я как-то сел, выписал себе этот ряд слов на бумажку и с тех пор только с ними работаю, нельзя. Очень многое находилось случайно, и когда пришло время оглянуться, вдруг выяснилось, что многое в моих занятиях взаимосвязано.
Ж.В. - Вы упомянули, что бумажная архитектура несла в себе достаточно сильный этический вызов. Может ли, на Ваш взгляд, быть этичной реальная архитектура? Или же этика в искусстве – это полемика с реальностью и ее осмысление?
Ю.А. - Не знаю, может ли быть этичной архитектура, по крайней мере, это не вопрос типологии. Раз общество нуждается в тюрьмах – кто-то их будет проектировать. И разрушать пирамиды потому, что они были построены трудом рабов – тоже не признак этического мировоззрения. Моральные устои в людях, а не в сваях. С другой стороны, когда архитектор обществу служит – хорошо, когда обслуживает… Главное - не смешивать запросы общества с рейтингом, который вырастает на “Поле чудес”…
Ж.В. - Но архитектор – человек изначально зависимый… Какая возможна этика, если все диктуется заказчиком?
Ю.А. - Есть точка зрения, что лучшая архитектура создавалась во времена тиранов. Довольно лукавая позиция, потому что до ХХ столетия архитектурных демократий и не существовало, а лицо этого столетия определила вовсе не архитектура Сталина-Гитлера-Муссолини. Полемика о роли общества как заказчика архитектуры началась только в конце 20-х на первом конгрессе современной архитектуры. И сейчас у архитектора тот же выбор: зависеть или не зависеть. За зависимым никто не пойдет, у независимого есть шанс повести людей за собой. Мне же кажется, авангард русской архитектуры должен находиться где-то там, где можно произнести слово “этика”, а не "заказчик".
Комментарии Ю.А. - Нет. Первая выставка появилась потому, что у архитекторов в то время выставок не было вообще. А показывать было что, например, проекты, которые мы уже три года как посылали на западные концептуальные конкурсы и получали (к всеобщему изумлению) премии. С этой выставки началась моя кураторская деятельность, хотя именем "куратор" я не пользовался чуть не до середины 90-х – мне казалось, что все, чем я занимаюсь: почтамт, списки, слайды, письма, лекции и прочая рутина – это просто общественная обязанность.
Ж.В. - Бумажная архитектура привязана если не к местности, то ко времени?
Ю.А. - В некотором смысле, да. К началу перестройки бумажная архитектура, как концептуальный жанр, развиваться перестала. Выставки еще продолжались, а архитектурного развития почти не было. Поскольку поисковой архитектурой, можно заниматься либо от безысходности, либо, наоборот, от хорошей жизни – последние лет 15 ею у нас никто не занимается. Безысходности нет, но и хорошей жизни пока не наступило. С начала 90-х большинство бумажников занялось реальной практикой, стало создавать свои бюро… А в конкурсах перестали участвовать еще раньше, в 88-м. В 1992 году, когда сборная выставка “Бумажной архитектуры”, объездив полмира, вернулась домой, в Московском архитектурном институте, нашей alma mater прошла прощальная выставка. Это были ее похороны. Тогда же всю коллекцию приобрел банк “Столичный”, а в прошлом году г-н Смоленский подарил ее Государственному Русскому музею. Бумажная архитектура перешла в архив истории искусства, что меня, конечно, радует. В общем, бумажная архитектура – явление, которое возникло на границах как архитектуры, так и изобразительного искусства. И там же, на этих границах она и осталось.
Ж.В. - Почему не было ничего использовано из тех идей?
Ю.А. - Бумажная архитектура - сублимированный и герметичный жанр. Это не проекты в их проекционной ипостаси, это "проекты проектов", прожекты, говоря по-русски. В них есть энергия, но не заложено позитивной программы реализации. Этим бумажная архитектура отличалась и от своих предшественников 20х и 60х годов, и от концептуальных проектов западных современников. Как Центурии Нострадамуса от Города Солнца Кампанеллы. Чем бумажная архитектура, может быть, мне и дорога. Хотя утверждать, что в проектах, получавших призы от всемирно известных архитекторов, немного архитектурных идей, а только симпатичная графика и литература, могут либо люди от архитектуры далекие, либо, напротив, профессионально завистливые. Можно еще сказать, что мы играли в те времена в замечательный, но все же любительский футбол. А для того, чтобы перейти в лигу профессионалов, требовалось очень многое. В том числе и то, что не зависело от участников тех дворовых соревнований. Я имею в виду целый комплекс профессиональных навыков, строительный, инженерный, искусствоведческий корпус… Полагать, что “проект проекта” должен легко перейти в рабочие чертежи, а потом в натуру, в нашем климате… несколько наивно. Такого не могло быть по определению.
Ж.В. - Можно ли сказать, что бумажная архитектура предвосхищала новые возможности?
Ю.А. - Она использовала поэтическую, пространственную компоненту архитектуры. Использовала образы высокого/низкого, тяжелого/ легкого, темного/светлого, закрытого/прозрачного, то есть такие переживания пространства, которые в человеке заложены с рождения и переживаются им тысячелетиями. В этом смысле бумажная архитектура не предлагала ничего нового, кроме принудительно забытого старого. Предлагала понять, что архитектура ФСБ (фундаментных стеновых блоков) к этим переживаниям никакого отношения не имеет. По тем временам это был сильный этический вызов. Но при этом она только понаслышке знала о строительных технологиях, существующих в другом, более развитом обществе. Поэтому, когда потребовалось ее этические или сугубо художественные мотивы реализовывать, выяснилось, что мало кто к этому готов. Если честно говорить, вообще никто не готов.
Ж.В. - Стилистически архитекторы ориентировались на начало ХХ века?
Ю.А. - Нет. У каждого из участников был свой любимый стиль в истории архитектуры, чей язык он использовал для выражения своих затей. Для кого-то это был модерн, для кого-то, как для меня, - конструктивизм, для кого-то –классицизм. Но повторю еще раз: праязык пространства значил больше, чем язык стиля. И это было важно.
Ж.В. - Ваше обращение к проекту “Русская утопия” тоже было связано с желанием вернуть архитектуре художественное значение?
Ю.А. - Для меня это было кураторским развитием темы бумажной архитектуры. Нужно было найти ей место. Она никак не вписывалась в советскую архитектуру с массовым строительством или дворцами Ленина, а ее участники не вписывались в ряды лауреатов госпремий. Поэтому мне показалось естественным искать ей место среди проектов нереализованных. В результате собирательства такого рода проектов с 250-летним погружением в историю российской архитектуры появился “Депозитарий: Русская утопия”. Оказалось, что исследование фонда утопических, визионерских, поисковых и т.п. проектов позволяет находить среди них свои закономерности.
Ж.В. - Какого рода?
Ю.А. - Так или иначе все эти проекты из прошлого устремлены в будущее. Так или иначе каждый из них по-прежнему может быть реализован. У меня даже появилась теория, что архитекторам (особенно тем, у кого нет собственных затей) надо работать только с фондами чужих проектов. Нужен заказчику классицизм - вот тебе Баженов, нужен конструктивизм - возьми Весниных. В них, не в пример постмодернистским, есть аутентичность.
Ж.В. - Что для вас определяет современность проекта?
Ю.А. - Во-первых, современный архитектурный авангард до недавнего времени работал с конструктивизмом, супрематизмом. Как, например, лауреаты премии Прицкера Заха Хадид и Рэм Кулхаас. Их кумирами были Эль Лисицкий и Леонидов. Во-вторых, для авангардного проекта не бывает стеллажей, на которые его можно сразу уложить при том, что потом они всегда находятся. Ну, а в-третьих, с такой полки проект всегда можно снять, и сама идея реализации забытого проекта может оказаться современной.
Ж.В. - Заманчивая идея. Желающие воплотить ее не нашлись?
Ю.А. - Проблема в том, что для того, чтобы реализовать, скажем, монумент Колумба Мельникова, нужно быть ему конгениальным. "Средний" архитектор способен загубить чужой проект так же, как свой. Да и заказчику тоже нужно быть уровня Гугенхайма. Так что депозитарий оказался и инкубатором и колумбарием одновременно.
Ж.В. - Почему преодоление исторического разрыва, о котором Вы сказали, закончилось очередной архитектурной утопией? Вроде бы мы шли к ситуации рынка, аналогичной мировой.
Ю.А. - В конце 80-х мы оказались у разбитого корыта. И по щучьему велению поменять это корыто на современную стиральную машину оказалось невозможно. Можно машину купить. А механизировать корыто нелепо. Преодоление разрыва - очень долгий процесс. Да, достаточно родиться талантом в России и тренироваться в Америке, чтобы выиграть Уимблдон. В теннисе это возможно. Но не в архитектуре. Можно родиться талантом, получить образование в Америке, вернуться сюда и обнаружить, что играть не с кем, не для кого или не на чем. Сегодня, в отличие от начала ХХ века, мы живем в архитектурной провинции. А прорываться в авангард можно только из первых рядов - не из обоза. Можно было бы что-то извлечь из этнографии. Но, во-первых, вопрос, сохранилась ли она, ведь народное планомерно уничтожалось либо заменялось на сувенирное. Во-вторых, в русской архитектуре нет сильных этнографических мотивов.
Ж.В. - Так уж и нет этнографических мотивов?
Ю.А. - В России была замечательная деревянная архитектура. А все остальное приходило из Византии, Италии, Франции, Германии. Я, например, охотнее поверю, что храм Покрова построен немцами, тем более что есть свидетельства, что за 4 года до строительства этого храма послы Ивана Грозного искали архитектора в Германии, а знаменитые декоративные купола появились позже. Вообще в России всегда работали классные иностранные архитекторы, которые здесь находили новые импульсы для своего творчества. Они, во многом, и создали ту архитектуру, которой принято гордиться как сугубо русской. А самая сильная наша этнография на сегодняшний день – это не матрешки, а Татлин.
Ж.В. - Каким образом Вы перешли от нереализованных проектов к архитектурной фотографии? Появилось желание запечатлеть воплощенные в камень проекты?
Ю.А. - Просто лет пять назад у меня завелась приличная камера. Вот и весь переход. Кроме того, фотография наряду с чертежом наиболее подробно описывает архитектуру. Поэтому я давно фотографией интересовался. И кураторские выставки делал… Потом был проект “24”, растянувшийся на три года. К тому же он был не про архитектуру а про город. Ну какой из Мухина архитектурный фотограф? Или любительские снимки неба над разными городами мира - это архитектура? Святым будет тот архитектор, который уловит взаимосвязь неба и своих зданий. Как Гауди. Я люблю ситуации неочевидного баланса, когда какие-то полярные категории находятся в скрытом равновесии. Допустим, "бумажная архитектура" – это оксюморон, это равновесие между строительным искусством и изобразительным. "Временные монументы", серия моделей-посвящений 20-м – равновесие между памятником и аттракционом. Архитектурная фотография сама по себе содержит противоречие между оптикой света и статикой капитального сооружения, химией печати и физикой разрушения. Мы думаем фотография недолговечна, света боится, больше 150 лет не живет, но не так много в мире архитектуры живущей дольше. И в депозитарии “Русской утопии” было заложено то же единство противоположностей. Вроде есть идея все непостроенное наконец-то построить, а выясняется, что уже и некому. Если научиться проект читать как книгу, если книга хорошая, то зачем из книги еще лить памятник.
Ж.В. - Как с этим желанием работать на границе – границе слова и изображения, макета и визуального искусства, реализованного и нереализованного – Вы обнаружили себя в Архитектурном институте?
Ю.А. - Никакого специального желания служить в погранвойсках актуального искусства у меня не было. Зашел в МАРХИ в день открытых дверей и остался совершенно потрясен. Мне иногда кажется, что я и сейчас там, учусь. И удивляюсь иногда, когда меня зовут архитектором, ведь я ничего не построил.
Ж.В. - Архитектура – изначально точная вещь. Она не может быть приблизительной. С другой стороны, без полета фантазии она тоже бессмысленна. Насколько Вам было интересно соотношение интуитивного и рационального?
Ю.А. - Конечно, интересно. К примеру, оказалось, что круг любимых сюжетов в моих работах жестко ограничен – это леса, лестницы, летчики, пролетарии... Эти слова родом из универсального хлебниковского языка. Между лесами, лестницами и полетами у меня перекинуто довольно много мостиков мифопоэтического свойства. Но сказать, что я как-то сел, выписал себе этот ряд слов на бумажку и с тех пор только с ними работаю, нельзя. Очень многое находилось случайно, и когда пришло время оглянуться, вдруг выяснилось, что многое в моих занятиях взаимосвязано.
Ж.В. - Вы упомянули, что бумажная архитектура несла в себе достаточно сильный этический вызов. Может ли, на Ваш взгляд, быть этичной реальная архитектура? Или же этика в искусстве – это полемика с реальностью и ее осмысление?
Ю.А. - Не знаю, может ли быть этичной архитектура, по крайней мере, это не вопрос типологии. Раз общество нуждается в тюрьмах – кто-то их будет проектировать. И разрушать пирамиды потому, что они были построены трудом рабов – тоже не признак этического мировоззрения. Моральные устои в людях, а не в сваях. С другой стороны, когда архитектор обществу служит – хорошо, когда обслуживает… Главное - не смешивать запросы общества с рейтингом, который вырастает на “Поле чудес”…
Ж.В. - Но архитектор – человек изначально зависимый… Какая возможна этика, если все диктуется заказчиком?
Ю.А. - Есть точка зрения, что лучшая архитектура создавалась во времена тиранов. Довольно лукавая позиция, потому что до ХХ столетия архитектурных демократий и не существовало, а лицо этого столетия определила вовсе не архитектура Сталина-Гитлера-Муссолини. Полемика о роли общества как заказчика архитектуры началась только в конце 20-х на первом конгрессе современной архитектуры. И сейчас у архитектора тот же выбор: зависеть или не зависеть. За зависимым никто не пойдет, у независимого есть шанс повести людей за собой. Мне же кажется, авангард русской архитектуры должен находиться где-то там, где можно произнести слово “этика”, а не "заказчик".

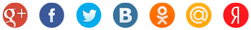 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments