20.05.1995
Николай Малинин //
, 20.05.1995
Воскресение тайного советника. Константин Тон как bon ton и как mauvais ton
- Наследие
информация:
-
где:
Россия. Москва
Кому пришло в голову, что архитектура - это застывшая музыка? Скорее уж окоченевшая политика. Из всех муз самая мускулистая - она и самая зависимая. От времени, места, цезаря, вьюги. Или так скажем: самое социальное из искусств.
А значит - наиболее анонимное.
Сколько в Москве каменной "безотцовщины"! Кто строил храм Василия Блаженного? То ли Барма, то ли Постник. А может, это был один и тот же человек. Кто автор Пашкова дома? То ли Баженов, то ли Казаков. Мавзолей - кем строен? То ли Щусевым, то ли Тамонькиным...
После похорон Константина Андреевича Тона вдова получила телеграмму: "Память о нем не изгладится, доколе будет существовать воздвигнутый его талантом храм во имя Христа Спасителя".
Дашков накаркал: Храм исчез - а с ним и его зодчий.
...Тон родился двести лет назад, а еще через девять был определен в Академию художеств. Там он "успел приобресть знания и стать художником в душе" и вышел с золотой медалью. (К золоту любовь имел наследственную, происходя из семьи золотых дел мастера; использовал его столь бурно, что современный искусствовед по поводу интерьеров Большого Кремлевского дворца заметил: "почти варварское изобилие блеска".)
Творческую деятельность начал весьма своеобразно: журнал "Зодчий" о первой его постройке писал: "Невиданное еще до тех пор в Петербурге сооружение, каким была эта оранжерея для взращивания ананасов, обогреваемая паром, который утилизировался одновременно для примыкавшей к ней прачешной, произвело сенсацию и было первое время модной темой для разговоров в столице".
Судьба - в лице "русского Винкельмана", президента Академии художеств Оленина - к нему благоволит: Тон едет пенсионером в Европу. Там "ругается, хвастает и ропщет, где только удается", делает "эффектное лицо" при виде хорошенькой женщины, музицирует с Зинаидою Волконской и позирует Карлу Брюллову. При этом успевает обмерить Палатин и стать академиком - 27 лет от роду.
Живет в Петербурге, а слава его живет в Москве. Здесь он строит храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейную палату, Малый театр. Вообще - строит много; "Оставленную для вас страницу в истории художеств вы исписали всю до конца, так что и места недостало", - скажет на его юбилее Нестор Кукольник. Строит прочно; одну из его церквей, превращенную в крепость, занимал в сорок втором штаб Балтийского флота. Строит чрезвычайно экономно, неоднократно получая премии за "сбережение издержек". Наконец, строит тщательно; на юбилейной выставке в Академии художеств можно было видеть громадный чертеж дверной ручки...
Из вышесказанного понятно: профессионал. Может, даже слишком профессионал, чтоб быть художником. Поначалу числили новатором - за то, что порвал с классицизмом и "основал новый стиль церковных зданий - стиль древнерусский, православный". Потом и здесь нашли прообраз - Византию; враги записали в "подражатели", друзья - в гении эклектики: "Тон весьма хорошо уразумел, что в наше время не выдумывают новых языков, но совершенствуют и обогащают существующие наречия".
В этой способности "обогащать и совершенствовать" был срифмован - ни много ни мало - с Пушкиным: тоновские, мол, храмы имеют к древнерусским такое же отношение, как стихи пушкинские к "Слову о полку Игореве". Национальное в архитектуре - тема подозрительная; Герцен, например, считал храм Христа "индовизантийским"; Грабарь видел в нем "образец ложнонационального вкуса", нам же кажется, что на месте Тона в этой пропорции (Тон-Пушкин) должен стоять модерн: разве Марфо-Мариинская обитель, Ярославский вокзал или "теремки" Ивана Бондаренко не вернее передают дух новгородского или псковского зодчества?
Точнее будет сказать, что национальное Тон утверждал не в образе, но в методе. Храм Спасителя строил исключительно из отечественного камня (хотя это было менее выгодно) - ради развития камнедобычи; работал только с русскими мастерами... За патриотизм щедро награждался: три Владимира, две Анны два Станислава, четыре бриллиантовые табакерки, шесть бриллиантовых перстней, "двенадцать высочайших благоволений", да чин тайного советника в придачу. Поэтому закономерно видел "бунтовщиков" в будущих передвижниках...
Государственная служба не мешала "бунтовать" в искусстве: ни дипломату Грибоедову, ни цензору Гончарову, ни генералу Кюи. Но искусство свое поставить на службу государству - совсем другой коленкор. Будучи послушным подданным его величества, Тон оставался таким же в творчестве.
Все его сооружения грамотны, добротны, прочны - но лишены души. Строя в самых ответственных местах, Тон слишком боялся перешагнуть рубеж того "чуть-чуть", за которым начинается искусство. Малый театр, конечно, аккуратно вписан в площадь, но лицо у него такое отсутствующее! Оружейная палата вроде бы не нарушила кремлевского строения, но ничего к нему и не добавила. А храмы - так просто по лекалу лудил, да еще и всей стране их навязал, вычертив атлас "образцовых фасадов". Герцен писал: "Желая везде и во всем убить всякий дух независимости, личности, фантазии, воли, Николай издал целый том церковных фасадов, высочайше утвержденных. Кто бы ни хотел строить церковь, он должен был непременно выбрать один из казенных планов".
"Он был не гений, но и не заурядный зодчий", - подвел итог творчеству Тона век XIX. XX век принялся судить его совсем по иным законам, с эстетикой имеющими мало общего. Семьдесят лет зодчего чморили как наиболее яркого выразителя "официальной народности". В 1989 году Татьяна Славина написала о нем великолепную книгу. Лакуна была закрыта, справедливость восстановлена. Но - ненадолго.
Нынче Тону воздаются такие почести, каких не знал еще ни один зодчий. Посвященная ему научная конференция открывается не где-нибудь, а в Георгиевском зале. Играет президентский оркестр. В пресс-релизе пишут, что "ни одно сооружение современников Тона не имело такого значения для развития отечественной архитектуры, как храм Христа Спасителя". "Вечерка" объявляет Тона "предтечей русского модерна" (с тем же успехом можно назвать Перова предтечей Шагала, а Загоскина - провозвестником Бабеля).
И даже Т.А. Славина заявляет с кремлевской трибуны, что "Тону нет равных по влиянию на профессиональную культуру и на жизнь вообще!". Понятно желание искусствоведа видеть своего героя главным, но едва ли совпадение ее интересов и интересов нынешних владельцев БКД обусловлено общими эстетическими пристрастиями...
О культуре николаевской эпохи Татьяна Андреевна обронила замечательную двусмысленность: "значение которой нам предстоит еще переоценить"... Оценим и переоценим, не извольте беспокоиться, как начнем хвалить - мало не покажется! Это раньше мы - по тупости своей - считали эклектику эпохой компиляторов, эпигонов и подражателей. Теперь-то мы поняли, что то было время искусных стилистов и талантливых интерпретаторов! Это раньше мы думали: реакция, аракчеевщина, безвременье... А теперь мы знаем: у нас была великая эпоха! Эпоха покоя, стабильности и здорового монархизма.
Эпоха поменяла знак, восстановление храма стало "ударной стройкой", а его автор - зодчим № 1. Значит, все недостатки должны быть переименованы в достоинства. Плодовит, как зайчиха? Нет, трудолюбив, как Толстой. Храмы его помпезны и громоздки? Нет, они торжественны и величественны. Все это очень напоминает песенку Джигарханяна в телефильме "Собака на сене": "Стройную мы назовем селедкой, умную объявим сумасбродкой..."
Влюбленные в свое искусствоведы не хотят видеть, что всякая переоценка начинается оттуда же, откуда и рыбка тухнет. У власти - свои резоны возлюбить зодчего. Когда эпоха не может утвердить себя в красоте - она утверждает себя в величии (величие, естественно, меряется величиной); когда эпоха не может утвердиться самостоятельно - она утверждается через эпоху ей родственную. Короче, восстановим храм к 80-летию кровавого Октября!
...Однако же празднование 200-летия Тона отнюдь не вылилось в казенный юбилей. Публика валом валила на выставку - смотреть деревянный макет купола храма Христа, тоновские акварельки и проект восстановления Большого театра. Бодро раскупался альбом "Большой Кремлевский дворец архитектора К. Тона". Искусствоведы были счастливы наконец-то попасть внутрь БКД, да и конференция была интересная.
Энтузиазм понятен: у публики есть другие причины нежно относиться к храму и его создателю. Они - униженные и оскорбленные, а таких в России любят больше, чем здоровых и счастливых. В сострадающей душе народа происходит порой вполне понятная подмена: убитый поэт становится талантливее мирно усопшего, бедный - гениальнее богатого, брошенный женой - даровитее ловеласа.
Но доблестной смертью не замалевать прижизненной бездарности, творческими муками не оправдать бесталанности, каторжным трудом не перещеголять небрежного вдохновения. Если храм строился полвека (а еще через полвека был взорван) - еще не значит, что это был шедевр.
В недолгой его жизни, пожалуй, только один и был эффектный момент: тот самый взрыв 5 декабря 1931 года. Но общество было так зачаровано знаменитыми кадрами кинохроники (в дыму медленно оседают гигантские камни), что отождествило взрыв - с храмом, сочло их равно красивыми. Мученическая кончина (если таковое понятие применимо к зданию) сделала из него "дважды" сакральный объект; всем известны недостатки этого сооружения, но исправлять их никто не собирается: как можно-с?
Динамит в ХХ веке стал полноправным участником творческого процесса. Взорвите Кремлевский Дворей съездов - и потомки обнаружат в нем чистоту, простоту, легкость и еще кучу достоинств. Ведь ругают его не за стилистику, а за то, что вторгся, испортил, погубил. Но и БКД - вторгся, и тоже многое подмял. Всякая кремлевская новостройка начиналась с разрушения, но никто в том греха не видел, а Сумароков так даже пел снос старых строений ради баженовского дворца: "Низвержена гора Монаршескою волей"...
Ущербна "монаршеская воля" не столько хамством, сколько нерешительностью. Снести - рука подымается, выстроить - дрожит. И у Тона, и у Посохина (автора КДС) был шанс: изнасилование превратить в любовь, наглость - в революцию, хамство свое довести до блеска, после которого оно превращается в авангард (позже становится классикой). Но оба спасовали и возвел и самые рядовые коробки. БКД - внешне - вполне мог бы сойти за казармы, КДС - за райком Урюпинска. Но если второй хотя бы тактично приземлен, то первый загородил своим монотонным фасадом все изящные панорамы.
Положение обязывало Тона создавать "выдающееся". И он - создавал. Его здания выдаются за красные линии, выходят из берегов, вываливаются из пропорций. Когда не могут взять умом или талантом - берут известно чем. И это смачное русское слово - может быть, самое точное в разговоре о храме Христа Спасителя. Москва его вымучила, высидела, выдавила из себя.
Скорбь о нем прямо-таки пропитана этими интонациями: ах, самый величественный, ах, самый грандиозный, ах, самый доминанта... Цифры и вправду зачаровывают: 103 метра высоты, 3,5 метра толщины, 40 миллионов кирпичей, 176 тонн меди, 422 кило золота, да язык главного колокола в 896 кг!
Храм стал символом "России, которую мы потеряли", наверное, еще и потому, что толком ту Россию никто себе не представляет. Понятно одно: Россия была "ого-го"! (Вроде как тот потерянный "привет", который удав передал мартышке). Россия - "ого-го", и храм - "ого-го", значит вполне годится в символы.
В своей безразмерности и эклектичности храм можнт вместить в себя самые противоречивые смыслы: величие России и ее поруганность, самобытность и обезьянничание, гордость и унижение, память и беспамятство. Очень удобно.
...Несколькими днями позже тоновских именин Петербургу был торжественно возвращен памятник Александру III работы Паоло Трубецкого. Другая эпоха, другой стиль, другой масштаб... Но в одном московский храм и питерский памятник удивительно схожи: в несоответствии результата монаршему замыслу. Призванные прославить и возвеличить, оба обернулись карикатурой.
Однако, ставя памятник, Петербург допускает ту меру иронии, которую допустил легкомысленный Паоло. Да, монумет - но с рефлексией. Да, памятник - но с улыбкой.
Москва же храм строит всерьез и надолго.
Комментарии Сколько в Москве каменной "безотцовщины"! Кто строил храм Василия Блаженного? То ли Барма, то ли Постник. А может, это был один и тот же человек. Кто автор Пашкова дома? То ли Баженов, то ли Казаков. Мавзолей - кем строен? То ли Щусевым, то ли Тамонькиным...
После похорон Константина Андреевича Тона вдова получила телеграмму: "Память о нем не изгладится, доколе будет существовать воздвигнутый его талантом храм во имя Христа Спасителя".
Дашков накаркал: Храм исчез - а с ним и его зодчий.
...Тон родился двести лет назад, а еще через девять был определен в Академию художеств. Там он "успел приобресть знания и стать художником в душе" и вышел с золотой медалью. (К золоту любовь имел наследственную, происходя из семьи золотых дел мастера; использовал его столь бурно, что современный искусствовед по поводу интерьеров Большого Кремлевского дворца заметил: "почти варварское изобилие блеска".)
Творческую деятельность начал весьма своеобразно: журнал "Зодчий" о первой его постройке писал: "Невиданное еще до тех пор в Петербурге сооружение, каким была эта оранжерея для взращивания ананасов, обогреваемая паром, который утилизировался одновременно для примыкавшей к ней прачешной, произвело сенсацию и было первое время модной темой для разговоров в столице".
Судьба - в лице "русского Винкельмана", президента Академии художеств Оленина - к нему благоволит: Тон едет пенсионером в Европу. Там "ругается, хвастает и ропщет, где только удается", делает "эффектное лицо" при виде хорошенькой женщины, музицирует с Зинаидою Волконской и позирует Карлу Брюллову. При этом успевает обмерить Палатин и стать академиком - 27 лет от роду.
Живет в Петербурге, а слава его живет в Москве. Здесь он строит храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейную палату, Малый театр. Вообще - строит много; "Оставленную для вас страницу в истории художеств вы исписали всю до конца, так что и места недостало", - скажет на его юбилее Нестор Кукольник. Строит прочно; одну из его церквей, превращенную в крепость, занимал в сорок втором штаб Балтийского флота. Строит чрезвычайно экономно, неоднократно получая премии за "сбережение издержек". Наконец, строит тщательно; на юбилейной выставке в Академии художеств можно было видеть громадный чертеж дверной ручки...
Из вышесказанного понятно: профессионал. Может, даже слишком профессионал, чтоб быть художником. Поначалу числили новатором - за то, что порвал с классицизмом и "основал новый стиль церковных зданий - стиль древнерусский, православный". Потом и здесь нашли прообраз - Византию; враги записали в "подражатели", друзья - в гении эклектики: "Тон весьма хорошо уразумел, что в наше время не выдумывают новых языков, но совершенствуют и обогащают существующие наречия".
В этой способности "обогащать и совершенствовать" был срифмован - ни много ни мало - с Пушкиным: тоновские, мол, храмы имеют к древнерусским такое же отношение, как стихи пушкинские к "Слову о полку Игореве". Национальное в архитектуре - тема подозрительная; Герцен, например, считал храм Христа "индовизантийским"; Грабарь видел в нем "образец ложнонационального вкуса", нам же кажется, что на месте Тона в этой пропорции (Тон-Пушкин) должен стоять модерн: разве Марфо-Мариинская обитель, Ярославский вокзал или "теремки" Ивана Бондаренко не вернее передают дух новгородского или псковского зодчества?
Точнее будет сказать, что национальное Тон утверждал не в образе, но в методе. Храм Спасителя строил исключительно из отечественного камня (хотя это было менее выгодно) - ради развития камнедобычи; работал только с русскими мастерами... За патриотизм щедро награждался: три Владимира, две Анны два Станислава, четыре бриллиантовые табакерки, шесть бриллиантовых перстней, "двенадцать высочайших благоволений", да чин тайного советника в придачу. Поэтому закономерно видел "бунтовщиков" в будущих передвижниках...
Государственная служба не мешала "бунтовать" в искусстве: ни дипломату Грибоедову, ни цензору Гончарову, ни генералу Кюи. Но искусство свое поставить на службу государству - совсем другой коленкор. Будучи послушным подданным его величества, Тон оставался таким же в творчестве.
Все его сооружения грамотны, добротны, прочны - но лишены души. Строя в самых ответственных местах, Тон слишком боялся перешагнуть рубеж того "чуть-чуть", за которым начинается искусство. Малый театр, конечно, аккуратно вписан в площадь, но лицо у него такое отсутствующее! Оружейная палата вроде бы не нарушила кремлевского строения, но ничего к нему и не добавила. А храмы - так просто по лекалу лудил, да еще и всей стране их навязал, вычертив атлас "образцовых фасадов". Герцен писал: "Желая везде и во всем убить всякий дух независимости, личности, фантазии, воли, Николай издал целый том церковных фасадов, высочайше утвержденных. Кто бы ни хотел строить церковь, он должен был непременно выбрать один из казенных планов".
"Он был не гений, но и не заурядный зодчий", - подвел итог творчеству Тона век XIX. XX век принялся судить его совсем по иным законам, с эстетикой имеющими мало общего. Семьдесят лет зодчего чморили как наиболее яркого выразителя "официальной народности". В 1989 году Татьяна Славина написала о нем великолепную книгу. Лакуна была закрыта, справедливость восстановлена. Но - ненадолго.
Нынче Тону воздаются такие почести, каких не знал еще ни один зодчий. Посвященная ему научная конференция открывается не где-нибудь, а в Георгиевском зале. Играет президентский оркестр. В пресс-релизе пишут, что "ни одно сооружение современников Тона не имело такого значения для развития отечественной архитектуры, как храм Христа Спасителя". "Вечерка" объявляет Тона "предтечей русского модерна" (с тем же успехом можно назвать Перова предтечей Шагала, а Загоскина - провозвестником Бабеля).
И даже Т.А. Славина заявляет с кремлевской трибуны, что "Тону нет равных по влиянию на профессиональную культуру и на жизнь вообще!". Понятно желание искусствоведа видеть своего героя главным, но едва ли совпадение ее интересов и интересов нынешних владельцев БКД обусловлено общими эстетическими пристрастиями...
О культуре николаевской эпохи Татьяна Андреевна обронила замечательную двусмысленность: "значение которой нам предстоит еще переоценить"... Оценим и переоценим, не извольте беспокоиться, как начнем хвалить - мало не покажется! Это раньше мы - по тупости своей - считали эклектику эпохой компиляторов, эпигонов и подражателей. Теперь-то мы поняли, что то было время искусных стилистов и талантливых интерпретаторов! Это раньше мы думали: реакция, аракчеевщина, безвременье... А теперь мы знаем: у нас была великая эпоха! Эпоха покоя, стабильности и здорового монархизма.
Эпоха поменяла знак, восстановление храма стало "ударной стройкой", а его автор - зодчим № 1. Значит, все недостатки должны быть переименованы в достоинства. Плодовит, как зайчиха? Нет, трудолюбив, как Толстой. Храмы его помпезны и громоздки? Нет, они торжественны и величественны. Все это очень напоминает песенку Джигарханяна в телефильме "Собака на сене": "Стройную мы назовем селедкой, умную объявим сумасбродкой..."
Влюбленные в свое искусствоведы не хотят видеть, что всякая переоценка начинается оттуда же, откуда и рыбка тухнет. У власти - свои резоны возлюбить зодчего. Когда эпоха не может утвердить себя в красоте - она утверждает себя в величии (величие, естественно, меряется величиной); когда эпоха не может утвердиться самостоятельно - она утверждается через эпоху ей родственную. Короче, восстановим храм к 80-летию кровавого Октября!
...Однако же празднование 200-летия Тона отнюдь не вылилось в казенный юбилей. Публика валом валила на выставку - смотреть деревянный макет купола храма Христа, тоновские акварельки и проект восстановления Большого театра. Бодро раскупался альбом "Большой Кремлевский дворец архитектора К. Тона". Искусствоведы были счастливы наконец-то попасть внутрь БКД, да и конференция была интересная.
Энтузиазм понятен: у публики есть другие причины нежно относиться к храму и его создателю. Они - униженные и оскорбленные, а таких в России любят больше, чем здоровых и счастливых. В сострадающей душе народа происходит порой вполне понятная подмена: убитый поэт становится талантливее мирно усопшего, бедный - гениальнее богатого, брошенный женой - даровитее ловеласа.
Но доблестной смертью не замалевать прижизненной бездарности, творческими муками не оправдать бесталанности, каторжным трудом не перещеголять небрежного вдохновения. Если храм строился полвека (а еще через полвека был взорван) - еще не значит, что это был шедевр.
В недолгой его жизни, пожалуй, только один и был эффектный момент: тот самый взрыв 5 декабря 1931 года. Но общество было так зачаровано знаменитыми кадрами кинохроники (в дыму медленно оседают гигантские камни), что отождествило взрыв - с храмом, сочло их равно красивыми. Мученическая кончина (если таковое понятие применимо к зданию) сделала из него "дважды" сакральный объект; всем известны недостатки этого сооружения, но исправлять их никто не собирается: как можно-с?
Динамит в ХХ веке стал полноправным участником творческого процесса. Взорвите Кремлевский Дворей съездов - и потомки обнаружат в нем чистоту, простоту, легкость и еще кучу достоинств. Ведь ругают его не за стилистику, а за то, что вторгся, испортил, погубил. Но и БКД - вторгся, и тоже многое подмял. Всякая кремлевская новостройка начиналась с разрушения, но никто в том греха не видел, а Сумароков так даже пел снос старых строений ради баженовского дворца: "Низвержена гора Монаршескою волей"...
Ущербна "монаршеская воля" не столько хамством, сколько нерешительностью. Снести - рука подымается, выстроить - дрожит. И у Тона, и у Посохина (автора КДС) был шанс: изнасилование превратить в любовь, наглость - в революцию, хамство свое довести до блеска, после которого оно превращается в авангард (позже становится классикой). Но оба спасовали и возвел и самые рядовые коробки. БКД - внешне - вполне мог бы сойти за казармы, КДС - за райком Урюпинска. Но если второй хотя бы тактично приземлен, то первый загородил своим монотонным фасадом все изящные панорамы.
Положение обязывало Тона создавать "выдающееся". И он - создавал. Его здания выдаются за красные линии, выходят из берегов, вываливаются из пропорций. Когда не могут взять умом или талантом - берут известно чем. И это смачное русское слово - может быть, самое точное в разговоре о храме Христа Спасителя. Москва его вымучила, высидела, выдавила из себя.
Скорбь о нем прямо-таки пропитана этими интонациями: ах, самый величественный, ах, самый грандиозный, ах, самый доминанта... Цифры и вправду зачаровывают: 103 метра высоты, 3,5 метра толщины, 40 миллионов кирпичей, 176 тонн меди, 422 кило золота, да язык главного колокола в 896 кг!
Храм стал символом "России, которую мы потеряли", наверное, еще и потому, что толком ту Россию никто себе не представляет. Понятно одно: Россия была "ого-го"! (Вроде как тот потерянный "привет", который удав передал мартышке). Россия - "ого-го", и храм - "ого-го", значит вполне годится в символы.
В своей безразмерности и эклектичности храм можнт вместить в себя самые противоречивые смыслы: величие России и ее поруганность, самобытность и обезьянничание, гордость и унижение, память и беспамятство. Очень удобно.
...Несколькими днями позже тоновских именин Петербургу был торжественно возвращен памятник Александру III работы Паоло Трубецкого. Другая эпоха, другой стиль, другой масштаб... Но в одном московский храм и питерский памятник удивительно схожи: в несоответствии результата монаршему замыслу. Призванные прославить и возвеличить, оба обернулись карикатурой.
Однако, ставя памятник, Петербург допускает ту меру иронии, которую допустил легкомысленный Паоло. Да, монумет - но с рефлексией. Да, памятник - но с улыбкой.
Москва же храм строит всерьез и надолго.

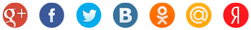 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments