17.04.1997
Николай Малинин //
Независимая газета, 17.04.1997
Город лишний, город вредный
- Урбанистика / Градостроительство
информация:
-
где:
Россия. Санкт-Петербург
Петербург в борьбе с собственной мифологией
Поговорим об артиллерии. В 1929 году Борис Эйхенбаум писал: "В каждом городе есть что-нибудь одно, чего нет ни в каком другом". В Петербурге - в полдень пушечный выстрел. Город вздрагивает и хватается за жилетный карман. Приезжему кажется, что люди бледнеют от ужаса.
Один петербургский мальчик был спокойно убежден, что эта ежедневная пушка стреляет с крепости "по врагам". Такая у него была концепция города и государства. И раз он забеспокоился: "Ведь пушка может не попасть в кучу врагов, как же тогда"?..
Вот, собственно, и весь разговор: в Питере - пушка, которая стреляет каждый день, в Москве - пушка, которая не стреляла никогда.
Но что за необходимость каждый день стрелять? Выходить на Сенатскую, брать Зимний, глушить процентщиц и императоров? Что за тяга к эксцентрическим поступкам? Очевидно, родовая травма.
Петербург - город, которому каждый день надо себя завоевывать, отстаивать. Город, которому ничего не было дано. Которому все приходилось отвоевывать: у природы, у воды, у Бога. Брать с боем, вырывать, выцарапывать. И даже Белинский, имевший демократический зуб на обе столицы, оппозицию подметил правильно: в Москве ничего не делают, в Петербурге делают ничего. Хоть и ничего - но все же упорно делают. Упрямо палят из пушки. Пусть и по воробьям (в прямом почти смысле).
Острая нужда в юбилее
Книжек о Петербурге издается сегодня бешеное количество. Самых разнообразных и вполне качественных. Вроде бы понятно: что еще делать городу, "чье символическое бытие предшествовало материальному" (Лотман), у которого всей истории - триста лет? Но стоит сравнить эти книжки с тем, что выходит в Москве и о Москве (у нас, правда, юбилей на носу, а до питерского 300-летия еще пять весен) - чтоб почувствовать разницу.
То, что покамест издано к 850-летию - нагоняет скупую мужскую зевоту. Несколько удач ("Прогулки" Нащокиной/Бусевой-Давыдовой, альбом Дациаро, "Московский архив"), но основная масса производит тяжелое впечатление. Грубо говоря - сделанного для галочки. Дорогущие альбомы, истошный Нагибин, вялые переиздания (Кондратьев, Фабрициус, Назаревский), Гиляровский, бесконечный и бессмысленный.
(Все это напоминает известный анекдот о московском обер-полицмейстере Николае Огареве. Когда генерал-губернатор спросил его, что он стал бы делать, коли б французы снова осадили город, Огарев ответствовал, что стрелял бы по ним из Царь-пушки. Когда же ему заметили, что у той всего четыре ядра, Николай Ильич сказал: "А я буду посылать пожарных таскать их назад").
Совсем другое дело в северной столице. Репринтов и бесстрастных перепечаток тут минимум. Разве что "Забытое прошлое окрестностей Санкт-Петербурга" Михаила Пыляева ("Лениздат", 1996), но и то - с обстоятельными комментариями. Прошлого на брегах Невы мало и оно слишком драгоценно, чтобы его просто холить-лелеять. С прошлым надо работать. Оно у Питера менее непредсказуемо, чем в иных городах-весях, но не менее живо.
Вообще, если в физическом отношении Питер здоровее Москвы (пробок поменьше, дышится полегче, Невский верхом перейти можно), то в психическом - беда. На людях он прикинут-причесан, бодр, свеж; просторы проспектов, холодное веселье набережных, звонкие площади, полные неба, и "величаво плавает в лазури морозом очарованный Исакий". Но стоит свернуть с улицы, нырнуть в парадное - вмиг! - все переменилось. Как в "Портрете Дориана Грея". Как символ в последней глубине темен, так Питер внутри себя шепеляв, скрипуч, плесневат: колодцы дворов, сырые комнаты, уголочки неба, черные лестницы ("где в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок"), потолки высокие - но коридоры узкие; склеп, чистый склеп; "в Петербурге жить - словно спать в гробу" (Мандельштам).
Не токмо Нева - сам город мечется больной в своей постеле беспокойной. Страстное желание докопаться до истока, до начал, до самой сути: в духе голливудских психоаналитических триллеров. И ясно все вроде бы (Петр, край, болото, блестящая ошибка) - но нет возможности остановиться в выговаривании болезни, заговаривании её. Невротик Питер и любит свою болезнь, и гордится ею (презирая московское здоровье), но все же - светский человек, не может на людях сморкаться, чихать, кашлять. Светлой стороной норовит обернуться, пыль свою золотую в глаза бросить. Отсюда - разнообразие психоаналитических (краеведческих) дискурсов. С одной стороны - утвердиться в глазах света, реабилитировать "областную судьбу", восполнить скромность генеалогии - бурностью. С другой стороны - разобраться в истории болезни, искоренить заразу.
В этом последнем пункте Питер заметно преуспел. Борясь с вирусом, он пытается убедить в своей здоровости себя и всех. А значит: изжить все свои знаменитые комплексы, мифы и стереотипы (то немногое, что у него есть). Питер-богоборец? Нет, Питер - город храмов. Город целого, а не частностей? Отнюдь: Питер - это отдельные дома, улицы, аптеки. "Дух неволи, стройный вид"? Опять ошибка: Питер - город театров, "бродячих собак" и прочих увеселительных заведений. И т. д.
К вопросу о некрофилии
Конечно, петербуржане любили свой город и раньше. Но любили интимно, собирали картотеки и гуляли Летним садом ("драгоценные плечи твои обнимая"). Краеведческий бум 70-х был еще полуподпольным, хотя лекции Бориса Кирикова были не менее популярны, чем премьеры в БДТ. В официальном же книгоиздании - разве что несколько оригинальных серий: "Зодчие нашего города" или "Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге-Петрограде-Ленинграде". Поэтому попытка подвести некий итог - энциклопедией "Санкт-Петербург-Петроград-Ленинград" (1992) - закономерно провалилась: в политическом отношении книга была еще слишком сервильной, в фактографическом - ущербной, в стилистическом - убогой. (Что, впрочем, можно счесть кознями Москвы - ибо издан фолиант был здесь).
Но почти одновременно (и тоже, кстати, в Москве) вышла книга Николая Анциферова "Душа Петербурга" (первый в России шедевр краеведения как такового) - и с этого момента началось новое освоение города книгоиздателями. Итог этому этапу подвела новоучрежденная Анциферовская премия, за соискание которой билось 74 (!) автора, а получили Александр Кобак и Юрий Пирютко - за "Исторические кладбища Петербурга" (издательство Чернышева, 1993).
Это, конечно, логично. Смерть в Петербурге - штука посильнее, чем "Смерть в Венеции". Это его главная ide-fixe; город клонит ко смерти, как вас под вечер клонит ко сну; но только в этом сюрреалистическом стремлении он обретает истинную прекрасность. "На моих глазах - вспоминал Добужинский 1919 год, - город умирал смертью необычайной красоты"...
Москва: пожар способствует ей вечно к украшенью. Ее насилуют - а она раслабится и получит удовольствие. Встанет, отряхнется и дальше пойдет: умудренная и весело-равнодушная. Петербург - горд, он не сдался никому, но цена этих побед была поистине ценою смерти. Быть или не быть Петербургу пусту? Вот красная нить, которой прострочены все якобы "краеведческие" штудии. Именно об этом - половина замечательного сборника "Метафизика Петербурга" (ФКИЦ "Эйдос", 1993, составитель Любава Морева). Ничто "петербуржское" нельзя понять вне смертности, все замешано на антитезе жизни-смерти, причем, образ смерти чаще всего преобладает (Михаил Уваров, "Метафизика смерти в образах Санкт-Петербурга"); Питер это город-испытание, смертность здесь всегда самая высокая в России, самоубийств - на сорок процентов выше среднего (Георгий Тульчинский, "Город-испытание").
Если бы Александр Лаврин вычленил из "Хроник Харона" петербургские смерти - получилось бы впечатляюще. От топора студента и от бомбы народовольца, в Михайловском дворце или в "Англетере", в наводнение или в блокаду: смерть на любой вкус. В Петербурге умирать не ново. Но ему так долго сулили погибель, что бытовой эсхатологизм стал образом жизни; город так свыкся с этой мыслью, что даже находит в ней некое удовольствие. Вот умру я - то-то вы заплачете.
Ждет не дождется Питер четвертого всадника; конь блед - есть ("Медный всадник"), конь рыжий - под Николаем на Исаакиевской, конь вороной недавно вернулся (Александр III). Недавно мэр Питера выразил готовность купить церетелевского Петра, но ежели им еще и клыковского Жукова спихнуть - как раз полный комплект будет.
Да вообще: перенести столицу обратно. Дать Москве отдохнуть.
"Святого ничего - одна утилитарность"
Невзирая на красоту питерских храмов, город никогда не казался церковным. Он и замыслен был богоборчески; святость - подчинялась государственности, собственно говоря, "святость Петербурга была именно в его государственности" (Лотман/Успенский). Что Петр, повелевший нарушать тайну исповеди, коли в той угроза идеалам его революции; что Екатерина, писавшая Вольтеру, что "церковная власть должна подчиняться ей безусловно"; что переименование 1916-го года - "перепосвятившее" город Петру-императору; что утилитарное храмоборчество советских лет ("Теперь так как мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь") - все это лилось на одну мельницу. Да и сами храмы только во вторую очередь воспринимаются как дома молитвы; шпиль Петропавловского, подкова Казанского, бронза Исаакия, баловство Спаса-на-Крови - все это город, здания, эстетика. Безблагостный сей пейзаж точно описал Иннокентий Анненский: "Ни кремлей, ни чудес, ни святынь, // Ни миражей, ни слез, ни улыбки, // Только камни из мерзлых пустынь // Да сознанье проклятой ошибки"...
В этом видели корень всех бед Петрополя. Надежда на прощение забрезжила, когда городу вернули имя, и - когда во дворике Петропавловки Михаил Шемякин поставил (посадил!) своего Петра. "Если растреллиевский кесарь являл образ победителя в зените славы, а фальконетов - имперского преобразователя, революционного самодержца, исполненного вулканической энергии, то третьего мы видим в поражении. Это уже не столько император, сколько старый голландский Питербаас, корабельный прораб России в тот воображаемый момент, когда его верфь, скажем, сгорела по нерадению" (Дмитрий Бобышев). Одни гневались, другие млели, но все как-то просмотрели главную идею памятника - "идею состоявшейся исповеди" (Михаил Уваров). Соразмерный человеку, не вознесенный пьедесталом, да и "не царь вовсе" - он воплощение самого натурального раскаяния. По нему ползают дети, возбуждая ужас музейщиков, но не этим ли - впервые - творится образ нового, "доброго" Петра?
...Вал литературы о храмах Петербурга - тоже своего рода покаяние. Первой были "Храмы Санкт-Петербурга" Сергея Шульца-младшего ("Глагол", 1994), спустя год в "Лениздате" вышла одноименная книга Андрея Павлова (гораздо более скромная: по объему, качеству и пафосу), ну, а черту подвел трехтомник Виктора Антонова и Александра Кобака "Святыни Санкт-Петербурга" (издательство Чернышева, 1994-1996): по структуре и замыслу он аналогичен московскому четырехтомнику "Сорок сороков", с той разницей, что авторы не склонны превращать очерк о каждом храме в кишмиш исторических свидетельств и педалировать злодеяния советчины - как это делает Петр Паламарчук.
Вероятно ("вереятно" - как говорят в Питере), миф о безбожии города - единственный, который будет благополучно развенчан. Храмы реставрируются и восстанавливаются, а писатели не только пишут, но и передают свои гонорары на воссоздание Петропавловского собора в Петергофе (как это сделал Андрей Павлов). Александр Розенбаум, мечтавший "снять леса со Спаса-на-Крови" и "не дрожать над вашим чудом, Монферран", может больше не беспокоиться.
"Желтый пар тетербуржской зимы"
Другой бард Петербурга, Евгений Клячкин, скромно признавался: "Воспитанник дурной погоды, я о другой не хлопочу". Философия более честная, чем "у природы нет плохой погоды", но что хорошо питерцу - немцу, как известно, смерть. Маркиз де Кюстин чуть ухо тут не отморозил, был спасен местным жителем, и долго удивлялся, что это в порядке вещей.
Путеводитель - довольно дикий в климатических условиях Питера жанр. Здесь как-то не приходит в голову стоять на ветру, озябшими пальцами листая обстоятельные бредни краеведа. Поэтому Питер никогд и не был озабочен изданием путеводителей - пока "Папирус" не рискнул выпусить весьма трогательный опус Натальи Левиной и Юрия Кирцидели "По этим улицам, по этим берегам". Аппетитная обложка (и вообще макет) Петра Канайкина делают книгу хорошим подарком, увеселительно-просветительный текст - неплохим пособием для средней школы. Страданья первопроходцев объявлены классикой самопожертвования, муки воспевателей уложены в эпиграфы, герои уравнены медальончиками портретов (Петр, Щеголев, Кшесинская - подряд). Миф стал общепринятой данностью, Набоков цитируется привольно, будто Пушкин (и будто не был он как поэт весьма тривиален), а тайна сведена к череде избитых маршрутов. На Фонтанке - водку пить, к ступеням Эрмитажа - когда на сердце тяжесть, на Васильевский остров - умирать.
Расхожий туристский план (Эрмитаж-Фальконет-Невский) петербуржцу оскорбительно скучен. В Питере есть много такого, чего не увезти. Чего даже не пощупать, не разглядеть. (От чего не отколоть кусочек и не сделать дамским украшением: как поступали с осколками "Гром-камня" - того, на котором гарцует Петр).
Это, например, такая невесомая материя как "пространство". Одна из лучших книжек последних лет - "Санкт-Петербург: образы пространства" Григория Каганова - вышла, как ни странно, в Москве ("Индрик", 1995). Если хрестоматий о том, как видели город писатели - хватает, то это первая хрестоматия, посвященная художникам. И это очень важно, ибо именно художники ("мирискусники") совершили третье - вслед за историками и писателями - открытие города.
Или еще менее внятная вещь - звуковой ландшафт города. Ему посвящено замечательное исследование Ирины Чудиновой "Пение, звоны, ритуал. Топография церковно-музыкальной культуры Петербурга" (Российский Институт истории искусств; 1994). Из той же когорты "неуловимостей" - петербургский язык. В Москве "акают", в Питере - "екают" (пЕтак, щЕлка, жЕлчь); здесь "ходют, видют, мучают", там - "ходят, видят, мучат"; вместо "семь" говорят "сем", вместо "еще" - "ешчо", а в пику нашим "булошным" и всяким там "што" - жестко упирают на "ч". Об этом - замечательная книга Владимира Колесова "Язык города" ("Высшая школа"; 1991).
А какой бы еще город ухитрился воспеть свои заводы и фабрики? Пожалуйста, книга Маргариты Штиглиц "Промышленная архитектура Петербурга" (ТОО "Журнал "Нева", 1995). Путиловский и "Треугольник", Ижорский и Сестрорецкий: всем сестрам по серьгам абзацев.
"Скука, холод и гранит"
Свою политическую неприязнь к Петербургу Адам Мицкевич эффектно маскировал под эстетическую: "Все скучной поражает прямотой, // В самих домах военный виден строй". С этим клеймом город проходил полвека, пока петербургский классицизм не был реабилитирован с подачи "мирискусников": как словом (Грабарь, Лукомский, Курбатов), так и делом (Фомин, Лидваль, Лялевич).
Что касается первого - "Лениздат" недавно переиздал капитальный труд Игоря Грабаря "Петербургская архитектура в ХУ111 и Х1Х веках" (1994), а по второму пункту необходимо отметить монографию Григория Ревзина "Неоклассицизм в русской архитектуре начала ХХ века" (М., 1992). Здесь впервые было сформулировано: основной пафос неоклассики - интеллектуальность; понятно, что именно в Петербурге, городе, как известно, "самом умышленном и отвлеченном", она и должна была пережить свой второй расцвет. А вот модерн - стиль другого города, противостоящего Питеру в классической оппозиции разума и чувства.
Однако давний спор - чей модерн лучше - остается самым ожесточенным. Совершенно ясно, что в Петербурге только такой модерн и мог быть: строгий, деловой, холодноватый, без московской плавности, без витальности и сексуальности. Петербург принимал модерн как дань моде, но пережить его как "свое" - не мог. И даже правофланговый образчик здешнего модерна - особняк Матильды Кшесинской - соответствовал стилю только снаружи, а внутри был абсолютно эклектичен.
(Неудивительно, что король московского модерна Федор Шехтель в северной столице почти ничего не построил, но и то, что сделал - постамент памятника Александру Третьему - сделал неудачно, изменив себе, не говоря уж о том, что оказался в роли штрейкбрехера.
Первоначальный проект постамента, сочиненный самим скульптором Паоло Трубецким - крутой обрыв, над которым замер конь - был куда эффектнее и метафоричнее, но цензура его запретила; шехтелевский же пьедестал Розанов справедливо обозвал "бонбоньеркой"... Об этом - небольшая, но красивая брошюра Лидии Шапошниковой "Памятник Александру III" (Русский музей; 1996).
Но даже все попытки реабилитации северного модерна обставлены в духе питерской традиции. Итогом многолетних трудов Бориса Кирикова стал справочник "Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины Х1Х - начала ХХ века" (в соавторстве с Абрамом Гинзбургом; "Пилигрим", 1996), где собраны сведения о 1300 питерских зодчих и о 10000 их постройках. Но книга эта едва ли может привлечь и вдохновить; сухие цифры, факты, даты, имена: клад для специалиста, но никакой радости любителю.
...Москва, как гласит пословица, строилась веками, Питер - миллионами. Но это, конечно, только полправды. Строился город - зодчими. Они - его главное достояние, большее, чем дворцы, заводы и пригороды. Они - именно что "петербуржское национальное": прочие культурные герои рассыпаны по самым разным ведомствам. Каждый питерец знает, что "гастроном на улице Ракова был построен зодчим из Кракова" (БГ).
О соответствующей серии, выходившей с 1978-го по 1991-й, мы уже упоминали (кстати, на ее основе "Лениздат" собрал двухтомник "Зодчие Петербурга", первый из которых выйдет на днях), отметим также и толстенный фолиант Юрия Овсянникова "Великие зодчие Санкт-Петербурга. Трезини, Растрелли, Росси" ("Искусство-СПБ"/"Северо-Запад", 1996): полноценно-популярный и неплохо иллюстрированный.
Архитектура же как таковая в последнее время популярностью не пользуется. Переориентация характерная: с собственно архитектуры - на архитекторов, на судьбу домов. С одной стороны, несколько популистская, но с другой стороны, дворцам довольно воздали дани - когда ни людей, ни мифы исследовать было еще нельзя.
"Да словно резинкой подпертый голландии новый багрец"
Николай Анциферов писал: "Здесь воздвигались не отдельные здания с их самодовлеющей красотой, а строились целые архитектурные пейзажи". Город-чиновник, в нем все подчинялось интересам государства; потерял шинель - "твои проблемы", отдельный фасад - не более чем нота в общей симфонии. "Основная единица Москвы - дом, поэтому в Москве много тупиков и переулков. - писал Юрий Тынянов. - Единица Петербурга - площадь". Зачарованные этой блистательной цельностью, историки привыкли не вдаваться в частности.
Но вот недавно появилась "черно-белая" серия, аналог "Биографии московского дома" (ООО "Белое и черное"). В ней вышло уже два десятка книг, как очень хороших (Б.Кириков и В.Бобров об особняке Кшесинской), так и довольно забавных, как книга Татьяны Соловьева о домах Фон-Дервизов - один из которых стал дворцом бракосочетаний, чему уделено 20 страниц: тут и фото счастливых молодоженов Киркоровых и полный список всех свадеб - от "ситцевой" до "коронной".
...Краеведение - бритва обоюдоострая: общий знаменатель очень прост, можно увидеть за судьбами-лицами-событиями некую цельность, метафизику, - этим местом/домом определенную, а можно наивно перечислить факты, простодушно умиляясь тому, как славненько в пределах одного дома объединяются политика и искусство, быт и бытие, белое и черное...
Историки стали внимательны не только к домам, но и к отдельно взятым улицам. Соседний проект - серия "Петербург весь на ладони". Начавшись пять лет назад весьма скромной брошюркой об улице Пестеля, она продолжилась путеводителем по Большой Морской (Л.Бройтман, Е.Краснова; издательство "Папирус"). Глава первая - "Дом № 1", глава вторая - "Дом № 2" и так далее - 69 глав... Оно, конечно, пристальность хороша, тем более, если объект выбран точно (как в данном случае), но опять же, что за радость - подобно студенту на зачете - перечислять имена, даты? Важен "гений места", настроение, душа улицы - а не совокупность событий. "Созданное произведение есть вещь среди вещей, которую можно познавать и описывать как сумму свойств. Но время от времени оно может представать перед восприимчивым зрителем, являя ему всю полноту воплощенного в нем образа". Эту цитату из Мартина Бубера приводит в очерке "Большая Морская" Алексей Пурин ("Воспоминания о Евтерпе"; АОЗТ "Журнал "Звезда", 1996) - вот ему как раз прекрасно удалось уловить Улицу.
"Мне здесь сновиденье явилось, и счеты сведу с ним сейчас же и тут же"
Тут стоит сказать о разительном отличии градоведения питерского и московского. Редкий москвовед обладает литературным даром. Это как бы необязательно. Едва ли не единственная хорошо написанная книга - "Старая Москва" Виктора Никольского (1924). В Москве краеведение - наука, в Питере - искусство. Но может быть, это следствие. Разница между москвоведом и питероведом - как между филологом и ботаником. Первый изучает растение, самое жизнь, второй - создание искусства, рукотворный шедевр. К Питеру и подступиться невозможно - не будучи поэтом. Потому что нет такого города "Санкт-Петербург", есть один только "петербургский текст".
"Для пришельца из вольной России этот город казался адом. - писал Георгий Федотов. - Он требовал отречения - от солнца, от земли, от радости. Умереть для счастья, чтобы родиться для творчества".
Город разошелся на цитаты без остатка. Он не состоялся ни как идеальный город, ни как столица олимпийских игр, но состоялся как Текст. Но и этот его подвиг можно, как выяснилось, дезавуировать. Причем, с самыми благими намерениями. Труд Моисея Кагана "Град Петров в истории русской культуры" ("Славия", 1996) фундаментален, добросовестен, набит под завязку цитатами, написан ясно и понятно. Но выясняется, что такой вот умеренно-благопристойной гуманитарной интерпретации Питер не поддается. Выскальзывает, дробится, двоится. Что поделать, Петербург - актер, всегда предполагающий зрителя (Лотман); кто-то из питерских писателей даже признавался, что не любит балета: потому что, входя в театр с улицы - попадает из декорации в декорацию.
Поэтому, наверное, уместнее просто собирать и комментировать тексты, как это и сделал "Лениздат" в сборнике "Город под морем" или Блистательный Санкт-Петербург" (1996). Пушкин и Бродский, Гоголь и Пильняк, Герцен и Гиппиус, Зоргенфрей и Кушнер... Но еще более удачный опыт - "Легенды и мифы Санкт-Петербурга" Наума Синдаловского ("Ленинградская галерея"; 1995). Это, может быть, вообще самая точная книга в современном питероведении. Город, "где ничто фантастическое не фантастично" (Лотман), город, "поражающий способностью превращать в символы любое содержание" (В.Серкова) - требует именно такого подхода. Мифы выбиваются золотом, но к каждому привешивается дощечка, где вся подоплека трезво и обстоятельно разъясняется.
"Твое холодное кипенье"
"Все же мне вас жаль немножко, // Потому что здесь порой // Ходит маленькая ножка, // Вьется локон золотой" - переживал Пушкин. Маленькая жалость классика обрела в наше время угрожающие размеры. Питер очень тяготится имиджем скучного, чиновного, холодного и асексуального города. И очень хочет этот образ развеять. Но - не получается.
Как и в случае с петербургским модерном, все романтические порывы ученых губятся привычкой к строгости, систематизации, статистике. Русский музей воздвиг целую серию выставок - романтизм, символизм, грядет классицизм; Эрмитаж подпел ему историзмом; но все эти выставки красиво и эффектно проваливаются - "ибо была морем // площадь, кремнем став" (Цветаева).
Поразительно, что и новые книги, призванные вроде бы развенчать миф о скучности-холодности Питера тоже являются не более чем справочниками: будь то "Театральный Петербург" Иры Петровской и Веры Соминой (Российский институт истории искусств, 1994) или "Увеселительные заведения старого Петербурга" Юрия Алянского (АОЗТ "ПФ"; 1997). И даже в таком щекотливом деле как эротика Питер сохраняет верность себе. Ни выставка "Путешествие на остров Киферы" (только что закрывшаяся в питерском Манеже), ни монография Натальи Лебиной и Михаила Шкаровского "Проституция в Петербурге" ("Прогресс-академия"; 1994) не могут поколебать москвича в ощущении, что в северной столице с "этим дело" не все ладно.
Тут мы подбираемся к самой болезненной для петербуржца теме, блестяще отрефлектированной Львом Лурье и Александром Кобаком в работе "Рождение и гибель Петербургской идеи" ("Музей и город", тематический выпуск журнала "Арс"; 1993).
"Лишь призраки на петербургском льду"
Самый дорогой сердцу петербуржца миф - это, конечно, Петербург начала века... "Башня", "Собака", Олечка Судейкина... Можно вспомнить опять (ах, зачем вспоминать?) как ходили гулять по Фонтанке...
Миф о прекрасном прошлом в СССР всегда рождался как антитеза светлому коммунистическому будущему. Сложению мифа о петербургском "золотом" (т.е. "серебряном") веке содействовала известная обида на Москву. Петербургский регионализм, как смягченный вариант идеи национальной, возник в 70-е годы - когда Москва стала восприниматься как "ставка врага", где все самое важное и куда уходит все самое лучшее. Что оставалось Петербургу? Естественно, прошлое. Город образца 1913 года представлялся совершенной идиллией: пышный двор, церковное благолепие, мощная промышленность, богатая торговля, меценатствующая буржуазия, напряженная интеллектуальная и культурная жизнь. Законным звеном был и образ петербуржца: скромного, благородного, возвышенного (ср. московскую корыстность), вежливого и образованного.
Именно этот пассеистический миф оказался основой ленинградского регионализма. В первые годы перестройки миф стал руководством к действию, краеведение - оплотом демократии. 19 октября 1986 года город встал на защиту дома Дельвига, а спустя полгода - вышел охранять "Англетер". Гостиницу, правда, не отстояли, но демократия победила, Собчак стал мэром.
Но в каких-то пять лет миф умер - именно потому что был скомпрометирован новым руководством. Попытка соорудить на базе мифа новую экономическую политику (Питер как свободная экономическая зона) провалилась: миф не выдержал. Довоенное благосостояние Петербурга держалось на военных заводах и иностранных инвестициях, плюс конвертируемый рубль. Воссоздать весь этот былой капитализм в новых условиях, в отдельно взятом городе оказалось невозможно, и уже в 1991 году Петербург стал одним из самых дорогих и неблагополучных городов страны.
Возвращенное городу имя радости горожанам не принесло. "Было ясно, что этот символический акт, - пишут Лурье и Кобак, - совпал по времени с полным исчерпанием идеи петербургского регионализма. Петербургский миф, зародившийся в начале ХХ века, угас к его концу. Скорее всего, на новом витке истории он будет вновь востребован и обретет актуальность, однако в настоящее время его политическая энергия исчерпана".
Как ни странно, миф рассыпался, не успев - книжно - воплотиться ни во что чудовищное, разве что припомним пошловато-претенциозный альбом "Литературный Петербург, Петроград" ("Советская Россия"; 1991). Сегодня исследователи тихо и мирно разрабатывают свои темы: в таких регулярных изданиях как "Невский архив" (на выходе - том третий; издательство "Феникс/Atheneum") или "Краеведческих записах", издаваемых Музеем истории Санкт-Петербурга и издательством "Акрополь" (вышло четыре номера).
"Не завалиться ли на печь, заколотив окно в Европу?"
Нет в среде гуманитариев выше похвалы, чем "противоречивость". Главное, что все сразу становится ясно. Отмычка на манер Фрейда. В чем обаяние Фассбиндера? В противоречивости. В чем прелести твоей секрет? В противоречивости. (Можно еще сказать "амбивалентный", но Бахтин из моды вышел ныне).
Питер тоже очень любит свою противоречивость. Город пышный - город бедный (Пушкин). Город славы - и беды (Ахматова). Прекрасно-страшный Петербург (Гиппиус).
Двойственность - сызмальства, запечатлена еще Фальконетом. Кто тут победитель - всадник, опускающий свои копыта на поверженного змия или ядовитый змий (примешь, мол, смерть от коня своего)?
Нет ничего более странного, чем то, что распоясанный, развинченный, беспринципный Розанов жил в Петербурге, а затянутый в сюртук, практичный и циничный Брюсов - в Москве.
Москва уже однажды - в тридцатые годы - выравнивалась под Питер, улицы спрямлялись, набережные одевались в гранит. Теперь Питер тянется за Москвой, реализуя странный замысел "Москволенинграда", оброненный академиком Лихачевым.
Капля камень точит, с изгнанием из своего имени корня "лень" Питер заметно приободрился. Вот только зачем?
В Питере столько хорошего! Такси дешевле, трамваи в центре, кафешек - куча, в "букинистах" книжек больше (что, правда, дурной признак), нет Церетели и храма Христа Спасителя, "Сайгона", правда, тоже больше нет, зато есть "Борей" и "Котел". Город уютный, маленький; в какие б гости не ходил - ни разу за Обводный не попал. И "Балтика-портер" здесь на тысячу дешевле...
Идея одновременна, - говорил Лотман, - а жизнь поли-временна; пытаясь таки три века кряду воплотить петров замысел, Петербург "все время занимался тем, что сам с собой воевал, сам себя переделывал, сам все время как бы переставал быть Петербургом".
А все равно, как говаривал Вяземский, "дурным стихам и счету нет и тут и там".
"Антгонизм между Москвой и Петербургом - чистейший вымысел" - прозревал Герцен. Кто вообще выдумал это противостояние? И кому оно нынче нужно? Замучила тебя московская суета - взял билет, поехал. Надоело питерское эстетство - катись обратно. Делов-то? "От Питера до Москвы - бутылка да стук колес".
Несгораемая Москва, непотопляемый Санкт-Петербург.
Комментарии Поговорим об артиллерии. В 1929 году Борис Эйхенбаум писал: "В каждом городе есть что-нибудь одно, чего нет ни в каком другом". В Петербурге - в полдень пушечный выстрел. Город вздрагивает и хватается за жилетный карман. Приезжему кажется, что люди бледнеют от ужаса.
Один петербургский мальчик был спокойно убежден, что эта ежедневная пушка стреляет с крепости "по врагам". Такая у него была концепция города и государства. И раз он забеспокоился: "Ведь пушка может не попасть в кучу врагов, как же тогда"?..
Вот, собственно, и весь разговор: в Питере - пушка, которая стреляет каждый день, в Москве - пушка, которая не стреляла никогда.
Но что за необходимость каждый день стрелять? Выходить на Сенатскую, брать Зимний, глушить процентщиц и императоров? Что за тяга к эксцентрическим поступкам? Очевидно, родовая травма.
Петербург - город, которому каждый день надо себя завоевывать, отстаивать. Город, которому ничего не было дано. Которому все приходилось отвоевывать: у природы, у воды, у Бога. Брать с боем, вырывать, выцарапывать. И даже Белинский, имевший демократический зуб на обе столицы, оппозицию подметил правильно: в Москве ничего не делают, в Петербурге делают ничего. Хоть и ничего - но все же упорно делают. Упрямо палят из пушки. Пусть и по воробьям (в прямом почти смысле).
Острая нужда в юбилее
Книжек о Петербурге издается сегодня бешеное количество. Самых разнообразных и вполне качественных. Вроде бы понятно: что еще делать городу, "чье символическое бытие предшествовало материальному" (Лотман), у которого всей истории - триста лет? Но стоит сравнить эти книжки с тем, что выходит в Москве и о Москве (у нас, правда, юбилей на носу, а до питерского 300-летия еще пять весен) - чтоб почувствовать разницу.
То, что покамест издано к 850-летию - нагоняет скупую мужскую зевоту. Несколько удач ("Прогулки" Нащокиной/Бусевой-Давыдовой, альбом Дациаро, "Московский архив"), но основная масса производит тяжелое впечатление. Грубо говоря - сделанного для галочки. Дорогущие альбомы, истошный Нагибин, вялые переиздания (Кондратьев, Фабрициус, Назаревский), Гиляровский, бесконечный и бессмысленный.
(Все это напоминает известный анекдот о московском обер-полицмейстере Николае Огареве. Когда генерал-губернатор спросил его, что он стал бы делать, коли б французы снова осадили город, Огарев ответствовал, что стрелял бы по ним из Царь-пушки. Когда же ему заметили, что у той всего четыре ядра, Николай Ильич сказал: "А я буду посылать пожарных таскать их назад").
Совсем другое дело в северной столице. Репринтов и бесстрастных перепечаток тут минимум. Разве что "Забытое прошлое окрестностей Санкт-Петербурга" Михаила Пыляева ("Лениздат", 1996), но и то - с обстоятельными комментариями. Прошлого на брегах Невы мало и оно слишком драгоценно, чтобы его просто холить-лелеять. С прошлым надо работать. Оно у Питера менее непредсказуемо, чем в иных городах-весях, но не менее живо.
Вообще, если в физическом отношении Питер здоровее Москвы (пробок поменьше, дышится полегче, Невский верхом перейти можно), то в психическом - беда. На людях он прикинут-причесан, бодр, свеж; просторы проспектов, холодное веселье набережных, звонкие площади, полные неба, и "величаво плавает в лазури морозом очарованный Исакий". Но стоит свернуть с улицы, нырнуть в парадное - вмиг! - все переменилось. Как в "Портрете Дориана Грея". Как символ в последней глубине темен, так Питер внутри себя шепеляв, скрипуч, плесневат: колодцы дворов, сырые комнаты, уголочки неба, черные лестницы ("где в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок"), потолки высокие - но коридоры узкие; склеп, чистый склеп; "в Петербурге жить - словно спать в гробу" (Мандельштам).
Не токмо Нева - сам город мечется больной в своей постеле беспокойной. Страстное желание докопаться до истока, до начал, до самой сути: в духе голливудских психоаналитических триллеров. И ясно все вроде бы (Петр, край, болото, блестящая ошибка) - но нет возможности остановиться в выговаривании болезни, заговаривании её. Невротик Питер и любит свою болезнь, и гордится ею (презирая московское здоровье), но все же - светский человек, не может на людях сморкаться, чихать, кашлять. Светлой стороной норовит обернуться, пыль свою золотую в глаза бросить. Отсюда - разнообразие психоаналитических (краеведческих) дискурсов. С одной стороны - утвердиться в глазах света, реабилитировать "областную судьбу", восполнить скромность генеалогии - бурностью. С другой стороны - разобраться в истории болезни, искоренить заразу.
В этом последнем пункте Питер заметно преуспел. Борясь с вирусом, он пытается убедить в своей здоровости себя и всех. А значит: изжить все свои знаменитые комплексы, мифы и стереотипы (то немногое, что у него есть). Питер-богоборец? Нет, Питер - город храмов. Город целого, а не частностей? Отнюдь: Питер - это отдельные дома, улицы, аптеки. "Дух неволи, стройный вид"? Опять ошибка: Питер - город театров, "бродячих собак" и прочих увеселительных заведений. И т. д.
К вопросу о некрофилии
Конечно, петербуржане любили свой город и раньше. Но любили интимно, собирали картотеки и гуляли Летним садом ("драгоценные плечи твои обнимая"). Краеведческий бум 70-х был еще полуподпольным, хотя лекции Бориса Кирикова были не менее популярны, чем премьеры в БДТ. В официальном же книгоиздании - разве что несколько оригинальных серий: "Зодчие нашего города" или "Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге-Петрограде-Ленинграде". Поэтому попытка подвести некий итог - энциклопедией "Санкт-Петербург-Петроград-Ленинград" (1992) - закономерно провалилась: в политическом отношении книга была еще слишком сервильной, в фактографическом - ущербной, в стилистическом - убогой. (Что, впрочем, можно счесть кознями Москвы - ибо издан фолиант был здесь).
Но почти одновременно (и тоже, кстати, в Москве) вышла книга Николая Анциферова "Душа Петербурга" (первый в России шедевр краеведения как такового) - и с этого момента началось новое освоение города книгоиздателями. Итог этому этапу подвела новоучрежденная Анциферовская премия, за соискание которой билось 74 (!) автора, а получили Александр Кобак и Юрий Пирютко - за "Исторические кладбища Петербурга" (издательство Чернышева, 1993).
Это, конечно, логично. Смерть в Петербурге - штука посильнее, чем "Смерть в Венеции". Это его главная ide-fixe; город клонит ко смерти, как вас под вечер клонит ко сну; но только в этом сюрреалистическом стремлении он обретает истинную прекрасность. "На моих глазах - вспоминал Добужинский 1919 год, - город умирал смертью необычайной красоты"...
Москва: пожар способствует ей вечно к украшенью. Ее насилуют - а она раслабится и получит удовольствие. Встанет, отряхнется и дальше пойдет: умудренная и весело-равнодушная. Петербург - горд, он не сдался никому, но цена этих побед была поистине ценою смерти. Быть или не быть Петербургу пусту? Вот красная нить, которой прострочены все якобы "краеведческие" штудии. Именно об этом - половина замечательного сборника "Метафизика Петербурга" (ФКИЦ "Эйдос", 1993, составитель Любава Морева). Ничто "петербуржское" нельзя понять вне смертности, все замешано на антитезе жизни-смерти, причем, образ смерти чаще всего преобладает (Михаил Уваров, "Метафизика смерти в образах Санкт-Петербурга"); Питер это город-испытание, смертность здесь всегда самая высокая в России, самоубийств - на сорок процентов выше среднего (Георгий Тульчинский, "Город-испытание").
Если бы Александр Лаврин вычленил из "Хроник Харона" петербургские смерти - получилось бы впечатляюще. От топора студента и от бомбы народовольца, в Михайловском дворце или в "Англетере", в наводнение или в блокаду: смерть на любой вкус. В Петербурге умирать не ново. Но ему так долго сулили погибель, что бытовой эсхатологизм стал образом жизни; город так свыкся с этой мыслью, что даже находит в ней некое удовольствие. Вот умру я - то-то вы заплачете.
Ждет не дождется Питер четвертого всадника; конь блед - есть ("Медный всадник"), конь рыжий - под Николаем на Исаакиевской, конь вороной недавно вернулся (Александр III). Недавно мэр Питера выразил готовность купить церетелевского Петра, но ежели им еще и клыковского Жукова спихнуть - как раз полный комплект будет.
Да вообще: перенести столицу обратно. Дать Москве отдохнуть.
"Святого ничего - одна утилитарность"
Невзирая на красоту питерских храмов, город никогда не казался церковным. Он и замыслен был богоборчески; святость - подчинялась государственности, собственно говоря, "святость Петербурга была именно в его государственности" (Лотман/Успенский). Что Петр, повелевший нарушать тайну исповеди, коли в той угроза идеалам его революции; что Екатерина, писавшая Вольтеру, что "церковная власть должна подчиняться ей безусловно"; что переименование 1916-го года - "перепосвятившее" город Петру-императору; что утилитарное храмоборчество советских лет ("Теперь так как мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь") - все это лилось на одну мельницу. Да и сами храмы только во вторую очередь воспринимаются как дома молитвы; шпиль Петропавловского, подкова Казанского, бронза Исаакия, баловство Спаса-на-Крови - все это город, здания, эстетика. Безблагостный сей пейзаж точно описал Иннокентий Анненский: "Ни кремлей, ни чудес, ни святынь, // Ни миражей, ни слез, ни улыбки, // Только камни из мерзлых пустынь // Да сознанье проклятой ошибки"...
В этом видели корень всех бед Петрополя. Надежда на прощение забрезжила, когда городу вернули имя, и - когда во дворике Петропавловки Михаил Шемякин поставил (посадил!) своего Петра. "Если растреллиевский кесарь являл образ победителя в зените славы, а фальконетов - имперского преобразователя, революционного самодержца, исполненного вулканической энергии, то третьего мы видим в поражении. Это уже не столько император, сколько старый голландский Питербаас, корабельный прораб России в тот воображаемый момент, когда его верфь, скажем, сгорела по нерадению" (Дмитрий Бобышев). Одни гневались, другие млели, но все как-то просмотрели главную идею памятника - "идею состоявшейся исповеди" (Михаил Уваров). Соразмерный человеку, не вознесенный пьедесталом, да и "не царь вовсе" - он воплощение самого натурального раскаяния. По нему ползают дети, возбуждая ужас музейщиков, но не этим ли - впервые - творится образ нового, "доброго" Петра?
...Вал литературы о храмах Петербурга - тоже своего рода покаяние. Первой были "Храмы Санкт-Петербурга" Сергея Шульца-младшего ("Глагол", 1994), спустя год в "Лениздате" вышла одноименная книга Андрея Павлова (гораздо более скромная: по объему, качеству и пафосу), ну, а черту подвел трехтомник Виктора Антонова и Александра Кобака "Святыни Санкт-Петербурга" (издательство Чернышева, 1994-1996): по структуре и замыслу он аналогичен московскому четырехтомнику "Сорок сороков", с той разницей, что авторы не склонны превращать очерк о каждом храме в кишмиш исторических свидетельств и педалировать злодеяния советчины - как это делает Петр Паламарчук.
Вероятно ("вереятно" - как говорят в Питере), миф о безбожии города - единственный, который будет благополучно развенчан. Храмы реставрируются и восстанавливаются, а писатели не только пишут, но и передают свои гонорары на воссоздание Петропавловского собора в Петергофе (как это сделал Андрей Павлов). Александр Розенбаум, мечтавший "снять леса со Спаса-на-Крови" и "не дрожать над вашим чудом, Монферран", может больше не беспокоиться.
"Желтый пар тетербуржской зимы"
Другой бард Петербурга, Евгений Клячкин, скромно признавался: "Воспитанник дурной погоды, я о другой не хлопочу". Философия более честная, чем "у природы нет плохой погоды", но что хорошо питерцу - немцу, как известно, смерть. Маркиз де Кюстин чуть ухо тут не отморозил, был спасен местным жителем, и долго удивлялся, что это в порядке вещей.
Путеводитель - довольно дикий в климатических условиях Питера жанр. Здесь как-то не приходит в голову стоять на ветру, озябшими пальцами листая обстоятельные бредни краеведа. Поэтому Питер никогд и не был озабочен изданием путеводителей - пока "Папирус" не рискнул выпусить весьма трогательный опус Натальи Левиной и Юрия Кирцидели "По этим улицам, по этим берегам". Аппетитная обложка (и вообще макет) Петра Канайкина делают книгу хорошим подарком, увеселительно-просветительный текст - неплохим пособием для средней школы. Страданья первопроходцев объявлены классикой самопожертвования, муки воспевателей уложены в эпиграфы, герои уравнены медальончиками портретов (Петр, Щеголев, Кшесинская - подряд). Миф стал общепринятой данностью, Набоков цитируется привольно, будто Пушкин (и будто не был он как поэт весьма тривиален), а тайна сведена к череде избитых маршрутов. На Фонтанке - водку пить, к ступеням Эрмитажа - когда на сердце тяжесть, на Васильевский остров - умирать.
Расхожий туристский план (Эрмитаж-Фальконет-Невский) петербуржцу оскорбительно скучен. В Питере есть много такого, чего не увезти. Чего даже не пощупать, не разглядеть. (От чего не отколоть кусочек и не сделать дамским украшением: как поступали с осколками "Гром-камня" - того, на котором гарцует Петр).
Это, например, такая невесомая материя как "пространство". Одна из лучших книжек последних лет - "Санкт-Петербург: образы пространства" Григория Каганова - вышла, как ни странно, в Москве ("Индрик", 1995). Если хрестоматий о том, как видели город писатели - хватает, то это первая хрестоматия, посвященная художникам. И это очень важно, ибо именно художники ("мирискусники") совершили третье - вслед за историками и писателями - открытие города.
Или еще менее внятная вещь - звуковой ландшафт города. Ему посвящено замечательное исследование Ирины Чудиновой "Пение, звоны, ритуал. Топография церковно-музыкальной культуры Петербурга" (Российский Институт истории искусств; 1994). Из той же когорты "неуловимостей" - петербургский язык. В Москве "акают", в Питере - "екают" (пЕтак, щЕлка, жЕлчь); здесь "ходют, видют, мучают", там - "ходят, видят, мучат"; вместо "семь" говорят "сем", вместо "еще" - "ешчо", а в пику нашим "булошным" и всяким там "што" - жестко упирают на "ч". Об этом - замечательная книга Владимира Колесова "Язык города" ("Высшая школа"; 1991).
А какой бы еще город ухитрился воспеть свои заводы и фабрики? Пожалуйста, книга Маргариты Штиглиц "Промышленная архитектура Петербурга" (ТОО "Журнал "Нева", 1995). Путиловский и "Треугольник", Ижорский и Сестрорецкий: всем сестрам по серьгам абзацев.
"Скука, холод и гранит"
Свою политическую неприязнь к Петербургу Адам Мицкевич эффектно маскировал под эстетическую: "Все скучной поражает прямотой, // В самих домах военный виден строй". С этим клеймом город проходил полвека, пока петербургский классицизм не был реабилитирован с подачи "мирискусников": как словом (Грабарь, Лукомский, Курбатов), так и делом (Фомин, Лидваль, Лялевич).
Что касается первого - "Лениздат" недавно переиздал капитальный труд Игоря Грабаря "Петербургская архитектура в ХУ111 и Х1Х веках" (1994), а по второму пункту необходимо отметить монографию Григория Ревзина "Неоклассицизм в русской архитектуре начала ХХ века" (М., 1992). Здесь впервые было сформулировано: основной пафос неоклассики - интеллектуальность; понятно, что именно в Петербурге, городе, как известно, "самом умышленном и отвлеченном", она и должна была пережить свой второй расцвет. А вот модерн - стиль другого города, противостоящего Питеру в классической оппозиции разума и чувства.
Однако давний спор - чей модерн лучше - остается самым ожесточенным. Совершенно ясно, что в Петербурге только такой модерн и мог быть: строгий, деловой, холодноватый, без московской плавности, без витальности и сексуальности. Петербург принимал модерн как дань моде, но пережить его как "свое" - не мог. И даже правофланговый образчик здешнего модерна - особняк Матильды Кшесинской - соответствовал стилю только снаружи, а внутри был абсолютно эклектичен.
(Неудивительно, что король московского модерна Федор Шехтель в северной столице почти ничего не построил, но и то, что сделал - постамент памятника Александру Третьему - сделал неудачно, изменив себе, не говоря уж о том, что оказался в роли штрейкбрехера.
Первоначальный проект постамента, сочиненный самим скульптором Паоло Трубецким - крутой обрыв, над которым замер конь - был куда эффектнее и метафоричнее, но цензура его запретила; шехтелевский же пьедестал Розанов справедливо обозвал "бонбоньеркой"... Об этом - небольшая, но красивая брошюра Лидии Шапошниковой "Памятник Александру III" (Русский музей; 1996).
Но даже все попытки реабилитации северного модерна обставлены в духе питерской традиции. Итогом многолетних трудов Бориса Кирикова стал справочник "Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины Х1Х - начала ХХ века" (в соавторстве с Абрамом Гинзбургом; "Пилигрим", 1996), где собраны сведения о 1300 питерских зодчих и о 10000 их постройках. Но книга эта едва ли может привлечь и вдохновить; сухие цифры, факты, даты, имена: клад для специалиста, но никакой радости любителю.
...Москва, как гласит пословица, строилась веками, Питер - миллионами. Но это, конечно, только полправды. Строился город - зодчими. Они - его главное достояние, большее, чем дворцы, заводы и пригороды. Они - именно что "петербуржское национальное": прочие культурные герои рассыпаны по самым разным ведомствам. Каждый питерец знает, что "гастроном на улице Ракова был построен зодчим из Кракова" (БГ).
О соответствующей серии, выходившей с 1978-го по 1991-й, мы уже упоминали (кстати, на ее основе "Лениздат" собрал двухтомник "Зодчие Петербурга", первый из которых выйдет на днях), отметим также и толстенный фолиант Юрия Овсянникова "Великие зодчие Санкт-Петербурга. Трезини, Растрелли, Росси" ("Искусство-СПБ"/"Северо-Запад", 1996): полноценно-популярный и неплохо иллюстрированный.
Архитектура же как таковая в последнее время популярностью не пользуется. Переориентация характерная: с собственно архитектуры - на архитекторов, на судьбу домов. С одной стороны, несколько популистская, но с другой стороны, дворцам довольно воздали дани - когда ни людей, ни мифы исследовать было еще нельзя.
"Да словно резинкой подпертый голландии новый багрец"
Николай Анциферов писал: "Здесь воздвигались не отдельные здания с их самодовлеющей красотой, а строились целые архитектурные пейзажи". Город-чиновник, в нем все подчинялось интересам государства; потерял шинель - "твои проблемы", отдельный фасад - не более чем нота в общей симфонии. "Основная единица Москвы - дом, поэтому в Москве много тупиков и переулков. - писал Юрий Тынянов. - Единица Петербурга - площадь". Зачарованные этой блистательной цельностью, историки привыкли не вдаваться в частности.
Но вот недавно появилась "черно-белая" серия, аналог "Биографии московского дома" (ООО "Белое и черное"). В ней вышло уже два десятка книг, как очень хороших (Б.Кириков и В.Бобров об особняке Кшесинской), так и довольно забавных, как книга Татьяны Соловьева о домах Фон-Дервизов - один из которых стал дворцом бракосочетаний, чему уделено 20 страниц: тут и фото счастливых молодоженов Киркоровых и полный список всех свадеб - от "ситцевой" до "коронной".
...Краеведение - бритва обоюдоострая: общий знаменатель очень прост, можно увидеть за судьбами-лицами-событиями некую цельность, метафизику, - этим местом/домом определенную, а можно наивно перечислить факты, простодушно умиляясь тому, как славненько в пределах одного дома объединяются политика и искусство, быт и бытие, белое и черное...
Историки стали внимательны не только к домам, но и к отдельно взятым улицам. Соседний проект - серия "Петербург весь на ладони". Начавшись пять лет назад весьма скромной брошюркой об улице Пестеля, она продолжилась путеводителем по Большой Морской (Л.Бройтман, Е.Краснова; издательство "Папирус"). Глава первая - "Дом № 1", глава вторая - "Дом № 2" и так далее - 69 глав... Оно, конечно, пристальность хороша, тем более, если объект выбран точно (как в данном случае), но опять же, что за радость - подобно студенту на зачете - перечислять имена, даты? Важен "гений места", настроение, душа улицы - а не совокупность событий. "Созданное произведение есть вещь среди вещей, которую можно познавать и описывать как сумму свойств. Но время от времени оно может представать перед восприимчивым зрителем, являя ему всю полноту воплощенного в нем образа". Эту цитату из Мартина Бубера приводит в очерке "Большая Морская" Алексей Пурин ("Воспоминания о Евтерпе"; АОЗТ "Журнал "Звезда", 1996) - вот ему как раз прекрасно удалось уловить Улицу.
"Мне здесь сновиденье явилось, и счеты сведу с ним сейчас же и тут же"
Тут стоит сказать о разительном отличии градоведения питерского и московского. Редкий москвовед обладает литературным даром. Это как бы необязательно. Едва ли не единственная хорошо написанная книга - "Старая Москва" Виктора Никольского (1924). В Москве краеведение - наука, в Питере - искусство. Но может быть, это следствие. Разница между москвоведом и питероведом - как между филологом и ботаником. Первый изучает растение, самое жизнь, второй - создание искусства, рукотворный шедевр. К Питеру и подступиться невозможно - не будучи поэтом. Потому что нет такого города "Санкт-Петербург", есть один только "петербургский текст".
"Для пришельца из вольной России этот город казался адом. - писал Георгий Федотов. - Он требовал отречения - от солнца, от земли, от радости. Умереть для счастья, чтобы родиться для творчества".
Город разошелся на цитаты без остатка. Он не состоялся ни как идеальный город, ни как столица олимпийских игр, но состоялся как Текст. Но и этот его подвиг можно, как выяснилось, дезавуировать. Причем, с самыми благими намерениями. Труд Моисея Кагана "Град Петров в истории русской культуры" ("Славия", 1996) фундаментален, добросовестен, набит под завязку цитатами, написан ясно и понятно. Но выясняется, что такой вот умеренно-благопристойной гуманитарной интерпретации Питер не поддается. Выскальзывает, дробится, двоится. Что поделать, Петербург - актер, всегда предполагающий зрителя (Лотман); кто-то из питерских писателей даже признавался, что не любит балета: потому что, входя в театр с улицы - попадает из декорации в декорацию.
Поэтому, наверное, уместнее просто собирать и комментировать тексты, как это и сделал "Лениздат" в сборнике "Город под морем" или Блистательный Санкт-Петербург" (1996). Пушкин и Бродский, Гоголь и Пильняк, Герцен и Гиппиус, Зоргенфрей и Кушнер... Но еще более удачный опыт - "Легенды и мифы Санкт-Петербурга" Наума Синдаловского ("Ленинградская галерея"; 1995). Это, может быть, вообще самая точная книга в современном питероведении. Город, "где ничто фантастическое не фантастично" (Лотман), город, "поражающий способностью превращать в символы любое содержание" (В.Серкова) - требует именно такого подхода. Мифы выбиваются золотом, но к каждому привешивается дощечка, где вся подоплека трезво и обстоятельно разъясняется.
"Твое холодное кипенье"
"Все же мне вас жаль немножко, // Потому что здесь порой // Ходит маленькая ножка, // Вьется локон золотой" - переживал Пушкин. Маленькая жалость классика обрела в наше время угрожающие размеры. Питер очень тяготится имиджем скучного, чиновного, холодного и асексуального города. И очень хочет этот образ развеять. Но - не получается.
Как и в случае с петербургским модерном, все романтические порывы ученых губятся привычкой к строгости, систематизации, статистике. Русский музей воздвиг целую серию выставок - романтизм, символизм, грядет классицизм; Эрмитаж подпел ему историзмом; но все эти выставки красиво и эффектно проваливаются - "ибо была морем // площадь, кремнем став" (Цветаева).
Поразительно, что и новые книги, призванные вроде бы развенчать миф о скучности-холодности Питера тоже являются не более чем справочниками: будь то "Театральный Петербург" Иры Петровской и Веры Соминой (Российский институт истории искусств, 1994) или "Увеселительные заведения старого Петербурга" Юрия Алянского (АОЗТ "ПФ"; 1997). И даже в таком щекотливом деле как эротика Питер сохраняет верность себе. Ни выставка "Путешествие на остров Киферы" (только что закрывшаяся в питерском Манеже), ни монография Натальи Лебиной и Михаила Шкаровского "Проституция в Петербурге" ("Прогресс-академия"; 1994) не могут поколебать москвича в ощущении, что в северной столице с "этим дело" не все ладно.
Тут мы подбираемся к самой болезненной для петербуржца теме, блестяще отрефлектированной Львом Лурье и Александром Кобаком в работе "Рождение и гибель Петербургской идеи" ("Музей и город", тематический выпуск журнала "Арс"; 1993).
"Лишь призраки на петербургском льду"
Самый дорогой сердцу петербуржца миф - это, конечно, Петербург начала века... "Башня", "Собака", Олечка Судейкина... Можно вспомнить опять (ах, зачем вспоминать?) как ходили гулять по Фонтанке...
Миф о прекрасном прошлом в СССР всегда рождался как антитеза светлому коммунистическому будущему. Сложению мифа о петербургском "золотом" (т.е. "серебряном") веке содействовала известная обида на Москву. Петербургский регионализм, как смягченный вариант идеи национальной, возник в 70-е годы - когда Москва стала восприниматься как "ставка врага", где все самое важное и куда уходит все самое лучшее. Что оставалось Петербургу? Естественно, прошлое. Город образца 1913 года представлялся совершенной идиллией: пышный двор, церковное благолепие, мощная промышленность, богатая торговля, меценатствующая буржуазия, напряженная интеллектуальная и культурная жизнь. Законным звеном был и образ петербуржца: скромного, благородного, возвышенного (ср. московскую корыстность), вежливого и образованного.
Именно этот пассеистический миф оказался основой ленинградского регионализма. В первые годы перестройки миф стал руководством к действию, краеведение - оплотом демократии. 19 октября 1986 года город встал на защиту дома Дельвига, а спустя полгода - вышел охранять "Англетер". Гостиницу, правда, не отстояли, но демократия победила, Собчак стал мэром.
Но в каких-то пять лет миф умер - именно потому что был скомпрометирован новым руководством. Попытка соорудить на базе мифа новую экономическую политику (Питер как свободная экономическая зона) провалилась: миф не выдержал. Довоенное благосостояние Петербурга держалось на военных заводах и иностранных инвестициях, плюс конвертируемый рубль. Воссоздать весь этот былой капитализм в новых условиях, в отдельно взятом городе оказалось невозможно, и уже в 1991 году Петербург стал одним из самых дорогих и неблагополучных городов страны.
Возвращенное городу имя радости горожанам не принесло. "Было ясно, что этот символический акт, - пишут Лурье и Кобак, - совпал по времени с полным исчерпанием идеи петербургского регионализма. Петербургский миф, зародившийся в начале ХХ века, угас к его концу. Скорее всего, на новом витке истории он будет вновь востребован и обретет актуальность, однако в настоящее время его политическая энергия исчерпана".
Как ни странно, миф рассыпался, не успев - книжно - воплотиться ни во что чудовищное, разве что припомним пошловато-претенциозный альбом "Литературный Петербург, Петроград" ("Советская Россия"; 1991). Сегодня исследователи тихо и мирно разрабатывают свои темы: в таких регулярных изданиях как "Невский архив" (на выходе - том третий; издательство "Феникс/Atheneum") или "Краеведческих записах", издаваемых Музеем истории Санкт-Петербурга и издательством "Акрополь" (вышло четыре номера).
"Не завалиться ли на печь, заколотив окно в Европу?"
Нет в среде гуманитариев выше похвалы, чем "противоречивость". Главное, что все сразу становится ясно. Отмычка на манер Фрейда. В чем обаяние Фассбиндера? В противоречивости. В чем прелести твоей секрет? В противоречивости. (Можно еще сказать "амбивалентный", но Бахтин из моды вышел ныне).
Питер тоже очень любит свою противоречивость. Город пышный - город бедный (Пушкин). Город славы - и беды (Ахматова). Прекрасно-страшный Петербург (Гиппиус).
Двойственность - сызмальства, запечатлена еще Фальконетом. Кто тут победитель - всадник, опускающий свои копыта на поверженного змия или ядовитый змий (примешь, мол, смерть от коня своего)?
Нет ничего более странного, чем то, что распоясанный, развинченный, беспринципный Розанов жил в Петербурге, а затянутый в сюртук, практичный и циничный Брюсов - в Москве.
Москва уже однажды - в тридцатые годы - выравнивалась под Питер, улицы спрямлялись, набережные одевались в гранит. Теперь Питер тянется за Москвой, реализуя странный замысел "Москволенинграда", оброненный академиком Лихачевым.
Капля камень точит, с изгнанием из своего имени корня "лень" Питер заметно приободрился. Вот только зачем?
В Питере столько хорошего! Такси дешевле, трамваи в центре, кафешек - куча, в "букинистах" книжек больше (что, правда, дурной признак), нет Церетели и храма Христа Спасителя, "Сайгона", правда, тоже больше нет, зато есть "Борей" и "Котел". Город уютный, маленький; в какие б гости не ходил - ни разу за Обводный не попал. И "Балтика-портер" здесь на тысячу дешевле...
Идея одновременна, - говорил Лотман, - а жизнь поли-временна; пытаясь таки три века кряду воплотить петров замысел, Петербург "все время занимался тем, что сам с собой воевал, сам себя переделывал, сам все время как бы переставал быть Петербургом".
А все равно, как говаривал Вяземский, "дурным стихам и счету нет и тут и там".
"Антгонизм между Москвой и Петербургом - чистейший вымысел" - прозревал Герцен. Кто вообще выдумал это противостояние? И кому оно нынче нужно? Замучила тебя московская суета - взял билет, поехал. Надоело питерское эстетство - катись обратно. Делов-то? "От Питера до Москвы - бутылка да стук колес".
Несгораемая Москва, непотопляемый Санкт-Петербург.

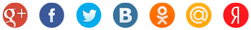 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments