28.05.1997
Николай Малинин //
Независимая газета, 28.05.1997
Руинотерапия как постмодернизм. Выставка Шарля Луи Клериссо в Эрмитаже
- Наследие
- Репортаж
- выставка
информация:
-
где:
Россия. Санкт-Петербург
Как-то так повелось устраивать выставки хороших художников. (Только постмодернисты позволяют себе выставлять намеренно плохое искусство).
Но вот в главном русском музее "дают" Клериссо. Художника, чьему рисунку "свойственна изначальная вялость, отсутствие внутренней энергии и силы", который "даже в лучшие периоды, отличаясь легкостью и свободой, оставался несколько отстраненным и невыразительным, лишеным экспрессии и эмоционального заряда". И это не бредущий по выставке хам небрежно бросил, а искусствовед в каталоге написал.
"Клериссо жил в правильное время, - язвит другой ученый, - он работал в правильном месте ... знал правильных людей". Вот, вроде бы, и все. Куда ему до Пиранези - урбаниста в камзоле, фантаста-наркомана, Гойе от архитектуры. Куда ему до Гюбера Робера - меланхолического лирика, певца транзита, который gloria mundi. Куда ему до Каспара Давида Фридриха - романтика-символиста, воздвигавшего свои руины как границы меж временем и вечностью, то есть, на линии смерти...
Чем же, в таком случае, вызвана выставка - побывавшая в Лувре, снабженная роскошным каталогом, дважды продлеваемая? Прежде всего - "мифом Клериссо", каковой, в свою очередь, возник из недолгой нежности к нему императрицы Екатерины Великой.
История их "романа" вкратце такова. В 1773 году Екатерина попросила Этьена Фальконе подыскать ей в Париже какого-нибудь античных дел мастера, дабы соорудить в Царском Селе некую "римскую рапсодию". Немолодого, но безработного Клериссо уговаривать не пришлось. Соединив в своем проекте виллу Адриана в Тиволи, помпейские образцы и планировочную структуру терм Каракаллы, он сочинил нечто грандиозное, вполне - по его мнению - соответствовшее величию русской царицы ("выкроил его в целую простыню"). Екатерина, однако, мегаломании не приняла и работу отвергла. Как и проект Триумфальных ворот (1780), предполагавшихся на пути из новой столицы в старую. Официально причиной отказа была дороговизна, но в подтексте читалось отсутствие "социального заказа" (спустя 30 лет, празднуя победу над Наполеоном, Россия настроила множество подобных дорогостоящих сооружений - и ничего).
Тем не менее, русская императрица пожелала купить его рисунки с тем чтобы украсить свой будуар в Зимнем. Воодушевленный Клериссо принялся слать все, что было, создав в итоге самую крупную в Европе коллекцию собственного творчества: 1200 рисунков в 18-ти роскошных кожаных коробках с золотым тиснением. При этом не забывал намекать на их ценность (в смысле - стоимость). Бедная Екатерина уж не знала, как от него отделаться. Картинная галерея европейского уровня в Петербурге была создана, имидж просвещенной монархини утвержден, казна же худела на глазах. В конце концов императрица назначила Клериссо вечную ренту и присвоила ему звание Первого архитектора Е.И.В.
Роман монарха с художником на этом закончился, но началось иное - классицизм. Во Францию его привезли четверо друзей маркизы Помпадур: совершив "большое путешествие" по Греции и Риму, они списали в утиль Палладио с Витрувием и принялись возрождать подлинную Элладу; на смену латинизму пришел эллинизм. Клериссо отправился вслед за ним и провел среди античных руин 19 лет: сначала с Пиранези, потом с братьями Адамами. Он не пропустил, кажется, ни одного памятника, из репортера превратившись в энциклопедиста, из туриста - в аборигена, из субъекта - едва ли не в объект.
..."Английский пейзаж завезли в Англию в чемодане" - шутит Том Стоппард в "Аркадии"; русский классицизм приехал в Россию в 18-ти папках Клериссо. Валерий Шевченко, главный русский клериссовед, уверен, что именно ими вдохновлялся Камерон, создавая интерьеры в Павловске и Царском, а Кваренги неслучайно вмонтировал клериссовские антики в "руины" дачи Безбородко в Полюстрове. Хотя и запоздав на четверть века, неоклассицизм в России осуществился столь мощно, как нигде в Европе; и в этом, как полагают авторы каталога, большая, "до сих пор неоцененная", заслуга французского руиниста...
Странно, однако, что этой заслуги не замечал ни Грабарь (говоря о роли перспективной живописи в победе неоклассицизма - называл лишь Паннини, Робера и Пиранези), ни Бенуа (писавший, что Кваренги и Росси вышли из лат Пиранези, а вовсе не из туники Клериссо). Да и нынешние потуги отстоять роль Клериссо в зачатии нового стиля отдают некоторой натяжкой.
В подзаголовке выставки читаем "архитектор Екатерины Великой" - но это не более чем выпрошенная у царицы очередная награда. Жак-Гийом Легран писал, что именно Клериссо повлиял на эволюцию Пиранези - но отметим, что первый был зятем второго. Старик Дидро его заметил, но вовсе не благословил, а написал так: "Этот преисполненный сознания своих достоинств человек никогда не умел писать с натуры". Томас Джеффересон просил у Клериссо совета по поводу строительства Капитолия в штате Вирджиния, Гете заказывал ему проект салона в веймарском дворце - но все это осталось на бумаге. Графоман, он извел кубометры картона, но почти ничего не построил. Единственное сохранившееся его сооружение, дворец в Меце, Винкельманом охарактеризовано тоже весьма двусмысленно: "Это строение, весьма значительное, характеризуется величием и простотой, во многом взятыми из античности"...
"Сегодня кажется очевидным, - пишет Николай Молок, - что Клериссо не был инициатором неоклассицизма и не мог повлиять на Пиранези. За исключением всеобщей в то время страсти к руинам, ничто не объединяет двух мастеров". Но зато - сколько разъединяет! И, может быть, именно в этом заочном противопоставлении главная ценность выставки.
Клериссо уже осознал ценность фрагмента ("что зачем вся дева, раз есть колено"), но по старинке пытался выстроить некую полноценную гармонию, тщательно ладя "архитектурные натюрморты". Пиранези же (и Бибиена в своей сценографии) утвердили самодостаточность фрагмента - то, что потом сформулирует Шлегель и окончательно воспоет век двадцатый. Пиранези, пораженный величием древних, отказался от мысли строить вообще, но зато из его бумажных фантазий родилась новая классика (как из рисунков Фомина - неоклассицизм начала нашего века). А вот был ли Клериссо наводчик, или только снаряды подносил - непонятно. Он слишком ревностно хранил верность духу чужого - тогда как Пиранези везде было важно найти свое; первый оставался декоратором, костюмером, второй становился режиссером. Клериссо - шалун, Пиранези - хулиган; первый держится в рамках истории, Пиранези творит свой фантастический Рим, близкий по безумности, безумности, безумности мирам Лукаса или Спилберга.
...Да, не было в истории человека, который бы так хорошо знал, как именно строили в Древнем Риме. Специфическая диагональная кладка, защемленные в стене консоли - инженерные тонкости древних Клериссо знал бесподобно. Зелень лавра, доходящая до дрожи, дверь распахнутая, пыльное оконце: как будто присутствовал. Но знание его оставалось ученостью, в искусство - не переплавлялось. Не говоря уж о таких пустяках, как страсть, дерзость, полет, он не слишком разнообразничал в технике, палитра его ограничивалась серым да коричневым, тени - игнорировал, не умел рисовать людей (весь стаффаж за него делали другие). Ну, и была такая простая штука как любовь к этим маленьким желтеньким кружочкам... Выработав еще в школе свой стиль, и осознав возможность на нем зарабатывать - не изменил ему до старости, безо всяких колебаний выдавая за "свежак" сделанное полвека назад (порой, правда, переписывал ранние работы, прямо как Пастернак, сестра его жизнь).
Логичным финалом римских штудий Клериссо стало создание грандиозного каталога орнаментов. Но где возникает конвейер - там кончается творчество. Или - начинается постмодернизм. И, видимо, именно здесь актуальность Клериссо. С гениями все понятно - они творили новое, определяли эволюцию, умирали за идею. В постмодернизме гениев нет. Здесь царствуют великие комбинаторы, монтажники-высотники и гениальные сыщики. Благодаря выставке (впервые, кстати, представляющей в России такой эстетический феномен века как Руина), Клериссо оказывается в этом веселом ряду одним из первых.
Не умел создать свое - но легкость, с которой он обращался с чужим, пришлась бы по вкусу и самому Чарльзу Дженксу. Поначалу гордился своим документализмом, но постепенно отходил от конкретики, сооружая некую универсальную "руину вообще", от археологии - шел к утопии. Итогом этой эволюции стала келья отца Лесёра в монастыре Тринита деи Монти в Риме: стены - руины, потолок дыряв, не стулья - обломки, вместо секретера - саркофаг; не комната - декорация, не "машина для жилья" - "идея для жилья".
Прекрасно зная законы существования материи, - он строил из будущего в прошлое, начинал свое зодчество с конца. Созидал трещины и выбоины, воздвигал сырой, потемневший мрамор, клал ломаный кирпич, сажал иссохшую зелень. Но это не декадентская любовь к умиранию - это парадоксальный гимн разумности и гармонии античности. Руина как проект. Руина как деконструкция. Он не драматизирует руину как Пиранези, он ее - лакирует. Она никогда не трагична, разве что малость меланхолична ("развалины есть праздник кислорода"). Он как бы приуготовляет грядущим ротам романтиков удобное местечко для вздохов (их "коллективной чувствительности в отношении к смерти" - по Арьесу), но Трои, павшей в прах, - не видит, не чувствует.
Гюбер Робер мог позволить себе изобразить Лувр в руинах, но куда ему до американских бомбардировщиков, размолотивших Дрезденскую галерею. Век ХУIII считали "веком руин", но разве не стал им на полную катушку век ХХ-й? "Я помню с детства остовы нагие, // Застывший горя лик без выраженья" - вот что такое руина ХХ века по Кушнеру. Отношение к ней переменилось, эстетизация ее стала отдавать цинизмом.
Но цинизм и есть родовой признак постмодернизма. ПоМо это прежде всего новая этика, а значит, новое отношение к беде, несчастью, смерти. Не сопереживание, не сочувствие - соглядатайство. "Варвары проявили себя талантливыми соавторами эллинов. - пишет Александр Генис. - Вырывая статуям глаза, отламывая им головы и руки, они навязывали античному покою собственный экспрессионизм. Сегодня эта разрушенность кажется декадентской незавершенностью, пикантной недосказанностью". Недостроенность или разрушенность - в конце ХХ века разница несущественна. Важен эффект, жест. "Руина прекрасного объекта прекраснее самого прекрасного объекта" - говорил Роден. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Во всяком случае, современный.
Может быть, еще и поэтому - при таком количестве несвершенного, недоделанного, неудавшегося - выставка чертовски интересна. Что остается за вычетом всех этих "не" и что, собственно, оправдывает "миф Клериссо"? Остается полное соответствие своему делу. Клериссо подобен руине, как Штраус - своим вальсам. Прожил 99 лет. Никогда не был полноценным "зданием" - всегда в нем чего-то недоставало. Но и "картиною" тоже не получалось - страсти не хватало, темперамента, хотите - харизмы (бывшей у Пиранези). Он так же бесстрастен, как и его руины; даже кратер Везувия в его исполненьи похож на завтрак туриста, дым костра создает уют.
Тщетность человеческих усилий, которую олицетворяет руина - и тщетность личных усилий Шарля Луи Клериссо: замечательная иллюстрация к мысли Зедльмайра о кризисе искусства ХУIII века, связанного с "утратой середины", и прежде всего связи "человек - Бог". "Мотив руины стал той формой, - пишет Анна Соболева, - с помощью которой оказалось возможным в искусстве и архитектуре выразить, а еще точнее, о-формить новое, беспрецедентное самоощущение человека в окружающем его мире. Руина это не только "метафора утраты" конкретно того сооружения, которое некогда было целостным, но и форма утраты формы вообще, форма утраты середины".
Надо ли после этого говорить об актуальности Клериссо?
Комментарии "Клериссо жил в правильное время, - язвит другой ученый, - он работал в правильном месте ... знал правильных людей". Вот, вроде бы, и все. Куда ему до Пиранези - урбаниста в камзоле, фантаста-наркомана, Гойе от архитектуры. Куда ему до Гюбера Робера - меланхолического лирика, певца транзита, который gloria mundi. Куда ему до Каспара Давида Фридриха - романтика-символиста, воздвигавшего свои руины как границы меж временем и вечностью, то есть, на линии смерти...
Чем же, в таком случае, вызвана выставка - побывавшая в Лувре, снабженная роскошным каталогом, дважды продлеваемая? Прежде всего - "мифом Клериссо", каковой, в свою очередь, возник из недолгой нежности к нему императрицы Екатерины Великой.
История их "романа" вкратце такова. В 1773 году Екатерина попросила Этьена Фальконе подыскать ей в Париже какого-нибудь античных дел мастера, дабы соорудить в Царском Селе некую "римскую рапсодию". Немолодого, но безработного Клериссо уговаривать не пришлось. Соединив в своем проекте виллу Адриана в Тиволи, помпейские образцы и планировочную структуру терм Каракаллы, он сочинил нечто грандиозное, вполне - по его мнению - соответствовшее величию русской царицы ("выкроил его в целую простыню"). Екатерина, однако, мегаломании не приняла и работу отвергла. Как и проект Триумфальных ворот (1780), предполагавшихся на пути из новой столицы в старую. Официально причиной отказа была дороговизна, но в подтексте читалось отсутствие "социального заказа" (спустя 30 лет, празднуя победу над Наполеоном, Россия настроила множество подобных дорогостоящих сооружений - и ничего).
Тем не менее, русская императрица пожелала купить его рисунки с тем чтобы украсить свой будуар в Зимнем. Воодушевленный Клериссо принялся слать все, что было, создав в итоге самую крупную в Европе коллекцию собственного творчества: 1200 рисунков в 18-ти роскошных кожаных коробках с золотым тиснением. При этом не забывал намекать на их ценность (в смысле - стоимость). Бедная Екатерина уж не знала, как от него отделаться. Картинная галерея европейского уровня в Петербурге была создана, имидж просвещенной монархини утвержден, казна же худела на глазах. В конце концов императрица назначила Клериссо вечную ренту и присвоила ему звание Первого архитектора Е.И.В.
Роман монарха с художником на этом закончился, но началось иное - классицизм. Во Францию его привезли четверо друзей маркизы Помпадур: совершив "большое путешествие" по Греции и Риму, они списали в утиль Палладио с Витрувием и принялись возрождать подлинную Элладу; на смену латинизму пришел эллинизм. Клериссо отправился вслед за ним и провел среди античных руин 19 лет: сначала с Пиранези, потом с братьями Адамами. Он не пропустил, кажется, ни одного памятника, из репортера превратившись в энциклопедиста, из туриста - в аборигена, из субъекта - едва ли не в объект.
..."Английский пейзаж завезли в Англию в чемодане" - шутит Том Стоппард в "Аркадии"; русский классицизм приехал в Россию в 18-ти папках Клериссо. Валерий Шевченко, главный русский клериссовед, уверен, что именно ими вдохновлялся Камерон, создавая интерьеры в Павловске и Царском, а Кваренги неслучайно вмонтировал клериссовские антики в "руины" дачи Безбородко в Полюстрове. Хотя и запоздав на четверть века, неоклассицизм в России осуществился столь мощно, как нигде в Европе; и в этом, как полагают авторы каталога, большая, "до сих пор неоцененная", заслуга французского руиниста...
Странно, однако, что этой заслуги не замечал ни Грабарь (говоря о роли перспективной живописи в победе неоклассицизма - называл лишь Паннини, Робера и Пиранези), ни Бенуа (писавший, что Кваренги и Росси вышли из лат Пиранези, а вовсе не из туники Клериссо). Да и нынешние потуги отстоять роль Клериссо в зачатии нового стиля отдают некоторой натяжкой.
В подзаголовке выставки читаем "архитектор Екатерины Великой" - но это не более чем выпрошенная у царицы очередная награда. Жак-Гийом Легран писал, что именно Клериссо повлиял на эволюцию Пиранези - но отметим, что первый был зятем второго. Старик Дидро его заметил, но вовсе не благословил, а написал так: "Этот преисполненный сознания своих достоинств человек никогда не умел писать с натуры". Томас Джеффересон просил у Клериссо совета по поводу строительства Капитолия в штате Вирджиния, Гете заказывал ему проект салона в веймарском дворце - но все это осталось на бумаге. Графоман, он извел кубометры картона, но почти ничего не построил. Единственное сохранившееся его сооружение, дворец в Меце, Винкельманом охарактеризовано тоже весьма двусмысленно: "Это строение, весьма значительное, характеризуется величием и простотой, во многом взятыми из античности"...
"Сегодня кажется очевидным, - пишет Николай Молок, - что Клериссо не был инициатором неоклассицизма и не мог повлиять на Пиранези. За исключением всеобщей в то время страсти к руинам, ничто не объединяет двух мастеров". Но зато - сколько разъединяет! И, может быть, именно в этом заочном противопоставлении главная ценность выставки.
Клериссо уже осознал ценность фрагмента ("что зачем вся дева, раз есть колено"), но по старинке пытался выстроить некую полноценную гармонию, тщательно ладя "архитектурные натюрморты". Пиранези же (и Бибиена в своей сценографии) утвердили самодостаточность фрагмента - то, что потом сформулирует Шлегель и окончательно воспоет век двадцатый. Пиранези, пораженный величием древних, отказался от мысли строить вообще, но зато из его бумажных фантазий родилась новая классика (как из рисунков Фомина - неоклассицизм начала нашего века). А вот был ли Клериссо наводчик, или только снаряды подносил - непонятно. Он слишком ревностно хранил верность духу чужого - тогда как Пиранези везде было важно найти свое; первый оставался декоратором, костюмером, второй становился режиссером. Клериссо - шалун, Пиранези - хулиган; первый держится в рамках истории, Пиранези творит свой фантастический Рим, близкий по безумности, безумности, безумности мирам Лукаса или Спилберга.
...Да, не было в истории человека, который бы так хорошо знал, как именно строили в Древнем Риме. Специфическая диагональная кладка, защемленные в стене консоли - инженерные тонкости древних Клериссо знал бесподобно. Зелень лавра, доходящая до дрожи, дверь распахнутая, пыльное оконце: как будто присутствовал. Но знание его оставалось ученостью, в искусство - не переплавлялось. Не говоря уж о таких пустяках, как страсть, дерзость, полет, он не слишком разнообразничал в технике, палитра его ограничивалась серым да коричневым, тени - игнорировал, не умел рисовать людей (весь стаффаж за него делали другие). Ну, и была такая простая штука как любовь к этим маленьким желтеньким кружочкам... Выработав еще в школе свой стиль, и осознав возможность на нем зарабатывать - не изменил ему до старости, безо всяких колебаний выдавая за "свежак" сделанное полвека назад (порой, правда, переписывал ранние работы, прямо как Пастернак, сестра его жизнь).
Логичным финалом римских штудий Клериссо стало создание грандиозного каталога орнаментов. Но где возникает конвейер - там кончается творчество. Или - начинается постмодернизм. И, видимо, именно здесь актуальность Клериссо. С гениями все понятно - они творили новое, определяли эволюцию, умирали за идею. В постмодернизме гениев нет. Здесь царствуют великие комбинаторы, монтажники-высотники и гениальные сыщики. Благодаря выставке (впервые, кстати, представляющей в России такой эстетический феномен века как Руина), Клериссо оказывается в этом веселом ряду одним из первых.
Не умел создать свое - но легкость, с которой он обращался с чужим, пришлась бы по вкусу и самому Чарльзу Дженксу. Поначалу гордился своим документализмом, но постепенно отходил от конкретики, сооружая некую универсальную "руину вообще", от археологии - шел к утопии. Итогом этой эволюции стала келья отца Лесёра в монастыре Тринита деи Монти в Риме: стены - руины, потолок дыряв, не стулья - обломки, вместо секретера - саркофаг; не комната - декорация, не "машина для жилья" - "идея для жилья".
Прекрасно зная законы существования материи, - он строил из будущего в прошлое, начинал свое зодчество с конца. Созидал трещины и выбоины, воздвигал сырой, потемневший мрамор, клал ломаный кирпич, сажал иссохшую зелень. Но это не декадентская любовь к умиранию - это парадоксальный гимн разумности и гармонии античности. Руина как проект. Руина как деконструкция. Он не драматизирует руину как Пиранези, он ее - лакирует. Она никогда не трагична, разве что малость меланхолична ("развалины есть праздник кислорода"). Он как бы приуготовляет грядущим ротам романтиков удобное местечко для вздохов (их "коллективной чувствительности в отношении к смерти" - по Арьесу), но Трои, павшей в прах, - не видит, не чувствует.
Гюбер Робер мог позволить себе изобразить Лувр в руинах, но куда ему до американских бомбардировщиков, размолотивших Дрезденскую галерею. Век ХУIII считали "веком руин", но разве не стал им на полную катушку век ХХ-й? "Я помню с детства остовы нагие, // Застывший горя лик без выраженья" - вот что такое руина ХХ века по Кушнеру. Отношение к ней переменилось, эстетизация ее стала отдавать цинизмом.
Но цинизм и есть родовой признак постмодернизма. ПоМо это прежде всего новая этика, а значит, новое отношение к беде, несчастью, смерти. Не сопереживание, не сочувствие - соглядатайство. "Варвары проявили себя талантливыми соавторами эллинов. - пишет Александр Генис. - Вырывая статуям глаза, отламывая им головы и руки, они навязывали античному покою собственный экспрессионизм. Сегодня эта разрушенность кажется декадентской незавершенностью, пикантной недосказанностью". Недостроенность или разрушенность - в конце ХХ века разница несущественна. Важен эффект, жест. "Руина прекрасного объекта прекраснее самого прекрасного объекта" - говорил Роден. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Во всяком случае, современный.
Может быть, еще и поэтому - при таком количестве несвершенного, недоделанного, неудавшегося - выставка чертовски интересна. Что остается за вычетом всех этих "не" и что, собственно, оправдывает "миф Клериссо"? Остается полное соответствие своему делу. Клериссо подобен руине, как Штраус - своим вальсам. Прожил 99 лет. Никогда не был полноценным "зданием" - всегда в нем чего-то недоставало. Но и "картиною" тоже не получалось - страсти не хватало, темперамента, хотите - харизмы (бывшей у Пиранези). Он так же бесстрастен, как и его руины; даже кратер Везувия в его исполненьи похож на завтрак туриста, дым костра создает уют.
Тщетность человеческих усилий, которую олицетворяет руина - и тщетность личных усилий Шарля Луи Клериссо: замечательная иллюстрация к мысли Зедльмайра о кризисе искусства ХУIII века, связанного с "утратой середины", и прежде всего связи "человек - Бог". "Мотив руины стал той формой, - пишет Анна Соболева, - с помощью которой оказалось возможным в искусстве и архитектуре выразить, а еще точнее, о-формить новое, беспрецедентное самоощущение человека в окружающем его мире. Руина это не только "метафора утраты" конкретно того сооружения, которое некогда было целостным, но и форма утраты формы вообще, форма утраты середины".
Надо ли после этого говорить об актуальности Клериссо?

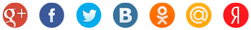 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments