30.05.1997
Николай Малинин //
Независимая газета, 30.05.1997
Но пораженье от победы ведь кто-то должен отличать... "Ампир в России": научная конференция в Царском Селе
- Наследие
- Репортаж
- конференция
информация:
-
где:
Россия
"Хоть всю земли шагами выстели, // Хоть расспрашивай всех и каждого, // С чем рифмуется слово "истина" - // Не узнать ни поэтам, ни гражданам". - писал один не слишком модный сегодня поэт.
Слово "ампир" рифмуется с "империей" (этимологически), с "победой" (исторически), с "пиром" (иронически), и даже на клавиатуре компьютера эти пять буковок образуют почти дорическую капитель, но вот исчерпывающего определения термину - нигде нет. Это примерно как "шахтерская жилка". Все знают, что она есть, но никто не знает, с чем ее есть. Чем она, собственно, определяется, где начинается и где кончается. Ограничить круг "ампирного": с этой задачей и съехались весною в Царское Село искусствоведы.
Ампир есть высшая и завершающая стадия классицизма: с этим вроде бы все согласны. Алексей Лепорк заявил, что вообще - с точки зрения мирового искусства - здания ампира это лучшее, что было в русской культуре двух предпоследних веков. Но у каждого - свой ампир, как у каждого Пастернака - свой Шекспир. Где же пролегает граница между классицизмом и ампиром?
Андрей Пунин заявил, что он такое место знает. Это стрелка Васильевского острова. Если кваренгиева Академия наук, отличаясь благородной простотой и классическим величием, еще абсолютно индифферентна по отношению к окружающему, то Биржа Томона ощутимо соединяет суровость Петропавловки и красочность Зимнего. Ампир, как полагается отвечать студенту-искусствоведу, - это апогей нового пространственного мышления. Город понят как целое. А значит, ампир еще и универсален; он подчиняет своей программе и самые утилитарные сооружения: будь то доки в Ливерпуле или Ижевский завод.
Собственно говоря, универсализм ампира и был темою остальных докладов. За исключением живописи (современники ампира, Брюллов и Кипренский, у нас по традиции числятся романтиками), новый стиль нашел воплощение во всем. Тарелки, кокарды, шпингалеты, диван из имения князей Барятинских... Личные вещи императора Александра: вполне ампирная "любовь к порядку, простоте и опрятности". Кареты: большее значение приобретает силуэт, нежели декор. Уличные фонари: ставшие в эпоху ампира полноценными предметами искусства.
Отметим и доклад Е.Гавриловой о Доротее Ливен как "символе эпохи". Красота этой женщины (если верить портрету Лоуренса) имела тот же семантический ореол победительности, что и весь ампир. Уехав с мужем, графом Ливеном, в Берлин (куда тот был назначен послом), вошла во вкус дипломатической деятельности, "присутствовала при прениях парламента, сочиняла депеши", общалась с Веллингтоном и Меттернихом, и в конце концов "весь лондонский высший свет был у ее ног". (Не говоря уж о Пушкине, который, будучи представлен, "смутился и покраснел"). Когда же муж умер, переехала в Париж, купила бывший дворец Талейрана, нежно дружила с Гизо, и дом их стал главным соперником салону Аделаиды Рекамье. За что Шатобриан, друг последней, обозвал нашу графиню "заурядной, утомительной и черствой".
Таким же порой казался и ампир. Например - Гоголю. Позже - Стасову. Казенным, холодным, помпезным и страшно далеким от народа. Это отношение царило весь ХIХ век, пока у нас за ампир не взялись "мирискусники", а в 1896 году о нем не написал Алоиз Ригль, создатель понятия "Kunstwollen" (доклад Алексея Лепорка). Ригль сформулировал главный закон стиля: тотальный эстетизм, полное преодоление конфликта между бытовыми подробностями и художественными законами. "Ампирное общество склонно считать себя схожим с собранием богов, не ощущая никаких других потребностей кроме стремления к прекрасному". Поэтому из интерьеров исчезают многоуважаемые шкафы (столь свойственные ренессансу), восточные ковры, барочные плафоны. Все стремится к строгой регулярности, античной рациональности, той "ясности, твердости и простоте", которые отмечал Томас Манн. Ампир вернулся в практику, и уже именно к нему апеллирует современник Манна Адольф Лоос, строя свой знаменитый "Дом без бровей" на венской Мариенплатц. В возрождении ампира сыграл свою роль и психоанализ, промысливший модерн как некую душевную болезнь, а, чистоту неоампира, соответственно - как сублимацию эроса, очищение и выздоровление. (Возможно, поэтому ампирная мебель остается и сегодня самой популярной у новой русской буржуазии, пьющей исключительно минералку и гордящейся прочностью своих браков).
Той же эпохе был посвящен доклад Владимира Круглова, который выяснил, что в русском искусстве рубежа веков произошло четкое размежевание двух ампиров. Москвичи (Борисов-Мусатов, Якунчикова, Средин, Жуковский) пели ампир барский, усадебный; ностальгировали и предчувствовали. Петербуржцы любили свой ампир: "желтизну правительственных зданий". Пропагандировали его в печати (Бенуа, Лукомский, Врангель), а главное - возрождали в камне (Фомин). Но уже в 1910-х годах ампир стал модой, молодежь гордо прошла мимо, а Репин так даже бросил, что "ненавидит этот стиль".
Что ж с него взять: вегетарианец. А ампир любил оружие, хотя любовь эта порой была и слепа. Например, мечи Горациев в знаменитой картине Давида Виктор Файбисович назвал "просто анекдотичными": не было таких тогда. Первым серьезным оружиеведом стал президент Академии Художеств Алексей Оленин. Если прежде русская история была как бы иллюстрацией к греческим подвигам, то благодаря его изысканиям она облачается в собственные законные одежды. Если Суворов (который памятник) весь в греческом одеянии, то Мартос (монумент Минину и Пожарскому) соединил отечественное и античное на равных правах: шлем на князе уже русский, хотя меч еще греческий. Источниками служили реальные шлемы русских князей, которые Оленин изучал, атрибутировал и широко вводил в оборот, предоставляя, например, Кипренскому для картины про Дмитрия Донского. Правда, ставя знак равенства между античными и русскими идеалами, Оленин способствовал крушению ампира и рождению историзма: что с точки зрения патриотической было, конечно, некоторым умалением, но по большому счету - еще одной тропинкой к мирному сосуществованию...
Вообще этот главный парадокс ампира никто осмыслить не взялся: стиль, искони определяемый как "стиль победы", делался по эскизам страны побежденной. Правда, образцы Персье и Фонтена, по которым Александр I велел строить, появились в России еще до войны, но расцвет ампира пришелся именно на годы триумфа. Александровскую колонну, символ нашей победы, проектировал Огюст Монферран - участник наполеоновских походов и кавалер ордена Почетного легиона! Проектируя декор колонны, автор, правда, заметил, что это в основном "вооружение классического характера", которое "не принадлежит современной эпохе и не может уязвить самолюбие никакого народа". То есть, делал колонну не как памятник конкретной победе над конкретной страной, а как монумент победы вообще, как триумф империи римской - т.е., образцовой (доклад Надежды Ефремовой).
Андрей Пунин предположил, что ампир как бы содействовал будущей победе; приятие героических форм предуготовило их военное овеществление. Откуда бы, казалось, взяться героической теме после Аустерлица и Тильзитского мира? Но ведь важнее готовность к подвигу, чем сам подвиг. Недаром на представлении озеровской пьесы "Дмитрий Донской", при словах "Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный" зал вставал, а офицеры-кавалергарды ехали бить стекла во французском посольстве...
Под углом искусства вся война двенадцатого года выглядит довольно милой и трогательной ссорой. Милые бранятся - только тешатся. Ампир - через голову политики - великодушно уравнивает противников. Вроде как та посылка, которую Женя Колышкин приволок немцам. Понятно, что стиль - явление интернациональное, но никакой другой не имеет такого количества конкретной семантики. Возможно, впрочем, этот смысл был навязан стилю Грабарем и Бенуа на волне столетнего юбилея, был спровоцирован логикой названия: ведь в западном искусствознании такого термина нет - там говорят "романтический классицизм". Тем не менее на гарднеровской чашке офицеры носят русские кивера, но одеты во французские мундиры...
Ампир служил примирителем и в более частных масштабах: так, император Александр I построил Владимиру Кочубею дворец в Царском Селе - чтобы вернуть того к службе. Когда-то близкие друзья, связанные идеалами республики, они разошлись: Кочубей был разочарован нерешительностью императора, а тот, в свою очередь - преданностью Кочубея не ему лично, а конституционной идее. Будучи, как и бабка, "обуреваем страстью к строительству", Александр самолично набросал проект, а Стасов воплотил его в жизнь. Благодаря этому тонкому дипломатическому ходу Кочубей, действительно, вернулся к делу и вскоре стал министром иностранных дел, политических иллюзий, правда, более не питал. Палладианские же формы дворца, - заявила Е.Гусарова, - "в эпоху ампира были напоминанием об идеалах молодости, о наивных мечтаниях воплотить в государственном устройстве России республиканские принципы античного Рима".
Тема победы как поражения (и наоборот) остается актуальной в России и в наш век: будь то Великая Отечественная, Афганистан или Чечня. Другое дело, что в искусстве этот парадокс воплощается на редкость комично: на рострах церетелиевского Петра крепят андреевские флаги - как-то не принимая во внимание, что ростры эти означали поверженные вражеские корбали...
Царское Село - Москва
Комментарии Ампир есть высшая и завершающая стадия классицизма: с этим вроде бы все согласны. Алексей Лепорк заявил, что вообще - с точки зрения мирового искусства - здания ампира это лучшее, что было в русской культуре двух предпоследних веков. Но у каждого - свой ампир, как у каждого Пастернака - свой Шекспир. Где же пролегает граница между классицизмом и ампиром?
Андрей Пунин заявил, что он такое место знает. Это стрелка Васильевского острова. Если кваренгиева Академия наук, отличаясь благородной простотой и классическим величием, еще абсолютно индифферентна по отношению к окружающему, то Биржа Томона ощутимо соединяет суровость Петропавловки и красочность Зимнего. Ампир, как полагается отвечать студенту-искусствоведу, - это апогей нового пространственного мышления. Город понят как целое. А значит, ампир еще и универсален; он подчиняет своей программе и самые утилитарные сооружения: будь то доки в Ливерпуле или Ижевский завод.
Собственно говоря, универсализм ампира и был темою остальных докладов. За исключением живописи (современники ампира, Брюллов и Кипренский, у нас по традиции числятся романтиками), новый стиль нашел воплощение во всем. Тарелки, кокарды, шпингалеты, диван из имения князей Барятинских... Личные вещи императора Александра: вполне ампирная "любовь к порядку, простоте и опрятности". Кареты: большее значение приобретает силуэт, нежели декор. Уличные фонари: ставшие в эпоху ампира полноценными предметами искусства.
Отметим и доклад Е.Гавриловой о Доротее Ливен как "символе эпохи". Красота этой женщины (если верить портрету Лоуренса) имела тот же семантический ореол победительности, что и весь ампир. Уехав с мужем, графом Ливеном, в Берлин (куда тот был назначен послом), вошла во вкус дипломатической деятельности, "присутствовала при прениях парламента, сочиняла депеши", общалась с Веллингтоном и Меттернихом, и в конце концов "весь лондонский высший свет был у ее ног". (Не говоря уж о Пушкине, который, будучи представлен, "смутился и покраснел"). Когда же муж умер, переехала в Париж, купила бывший дворец Талейрана, нежно дружила с Гизо, и дом их стал главным соперником салону Аделаиды Рекамье. За что Шатобриан, друг последней, обозвал нашу графиню "заурядной, утомительной и черствой".
Таким же порой казался и ампир. Например - Гоголю. Позже - Стасову. Казенным, холодным, помпезным и страшно далеким от народа. Это отношение царило весь ХIХ век, пока у нас за ампир не взялись "мирискусники", а в 1896 году о нем не написал Алоиз Ригль, создатель понятия "Kunstwollen" (доклад Алексея Лепорка). Ригль сформулировал главный закон стиля: тотальный эстетизм, полное преодоление конфликта между бытовыми подробностями и художественными законами. "Ампирное общество склонно считать себя схожим с собранием богов, не ощущая никаких других потребностей кроме стремления к прекрасному". Поэтому из интерьеров исчезают многоуважаемые шкафы (столь свойственные ренессансу), восточные ковры, барочные плафоны. Все стремится к строгой регулярности, античной рациональности, той "ясности, твердости и простоте", которые отмечал Томас Манн. Ампир вернулся в практику, и уже именно к нему апеллирует современник Манна Адольф Лоос, строя свой знаменитый "Дом без бровей" на венской Мариенплатц. В возрождении ампира сыграл свою роль и психоанализ, промысливший модерн как некую душевную болезнь, а, чистоту неоампира, соответственно - как сублимацию эроса, очищение и выздоровление. (Возможно, поэтому ампирная мебель остается и сегодня самой популярной у новой русской буржуазии, пьющей исключительно минералку и гордящейся прочностью своих браков).
Той же эпохе был посвящен доклад Владимира Круглова, который выяснил, что в русском искусстве рубежа веков произошло четкое размежевание двух ампиров. Москвичи (Борисов-Мусатов, Якунчикова, Средин, Жуковский) пели ампир барский, усадебный; ностальгировали и предчувствовали. Петербуржцы любили свой ампир: "желтизну правительственных зданий". Пропагандировали его в печати (Бенуа, Лукомский, Врангель), а главное - возрождали в камне (Фомин). Но уже в 1910-х годах ампир стал модой, молодежь гордо прошла мимо, а Репин так даже бросил, что "ненавидит этот стиль".
Что ж с него взять: вегетарианец. А ампир любил оружие, хотя любовь эта порой была и слепа. Например, мечи Горациев в знаменитой картине Давида Виктор Файбисович назвал "просто анекдотичными": не было таких тогда. Первым серьезным оружиеведом стал президент Академии Художеств Алексей Оленин. Если прежде русская история была как бы иллюстрацией к греческим подвигам, то благодаря его изысканиям она облачается в собственные законные одежды. Если Суворов (который памятник) весь в греческом одеянии, то Мартос (монумент Минину и Пожарскому) соединил отечественное и античное на равных правах: шлем на князе уже русский, хотя меч еще греческий. Источниками служили реальные шлемы русских князей, которые Оленин изучал, атрибутировал и широко вводил в оборот, предоставляя, например, Кипренскому для картины про Дмитрия Донского. Правда, ставя знак равенства между античными и русскими идеалами, Оленин способствовал крушению ампира и рождению историзма: что с точки зрения патриотической было, конечно, некоторым умалением, но по большому счету - еще одной тропинкой к мирному сосуществованию...
Вообще этот главный парадокс ампира никто осмыслить не взялся: стиль, искони определяемый как "стиль победы", делался по эскизам страны побежденной. Правда, образцы Персье и Фонтена, по которым Александр I велел строить, появились в России еще до войны, но расцвет ампира пришелся именно на годы триумфа. Александровскую колонну, символ нашей победы, проектировал Огюст Монферран - участник наполеоновских походов и кавалер ордена Почетного легиона! Проектируя декор колонны, автор, правда, заметил, что это в основном "вооружение классического характера", которое "не принадлежит современной эпохе и не может уязвить самолюбие никакого народа". То есть, делал колонну не как памятник конкретной победе над конкретной страной, а как монумент победы вообще, как триумф империи римской - т.е., образцовой (доклад Надежды Ефремовой).
Андрей Пунин предположил, что ампир как бы содействовал будущей победе; приятие героических форм предуготовило их военное овеществление. Откуда бы, казалось, взяться героической теме после Аустерлица и Тильзитского мира? Но ведь важнее готовность к подвигу, чем сам подвиг. Недаром на представлении озеровской пьесы "Дмитрий Донской", при словах "Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный" зал вставал, а офицеры-кавалергарды ехали бить стекла во французском посольстве...
Под углом искусства вся война двенадцатого года выглядит довольно милой и трогательной ссорой. Милые бранятся - только тешатся. Ампир - через голову политики - великодушно уравнивает противников. Вроде как та посылка, которую Женя Колышкин приволок немцам. Понятно, что стиль - явление интернациональное, но никакой другой не имеет такого количества конкретной семантики. Возможно, впрочем, этот смысл был навязан стилю Грабарем и Бенуа на волне столетнего юбилея, был спровоцирован логикой названия: ведь в западном искусствознании такого термина нет - там говорят "романтический классицизм". Тем не менее на гарднеровской чашке офицеры носят русские кивера, но одеты во французские мундиры...
Ампир служил примирителем и в более частных масштабах: так, император Александр I построил Владимиру Кочубею дворец в Царском Селе - чтобы вернуть того к службе. Когда-то близкие друзья, связанные идеалами республики, они разошлись: Кочубей был разочарован нерешительностью императора, а тот, в свою очередь - преданностью Кочубея не ему лично, а конституционной идее. Будучи, как и бабка, "обуреваем страстью к строительству", Александр самолично набросал проект, а Стасов воплотил его в жизнь. Благодаря этому тонкому дипломатическому ходу Кочубей, действительно, вернулся к делу и вскоре стал министром иностранных дел, политических иллюзий, правда, более не питал. Палладианские же формы дворца, - заявила Е.Гусарова, - "в эпоху ампира были напоминанием об идеалах молодости, о наивных мечтаниях воплотить в государственном устройстве России республиканские принципы античного Рима".
Тема победы как поражения (и наоборот) остается актуальной в России и в наш век: будь то Великая Отечественная, Афганистан или Чечня. Другое дело, что в искусстве этот парадокс воплощается на редкость комично: на рострах церетелиевского Петра крепят андреевские флаги - как-то не принимая во внимание, что ростры эти означали поверженные вражеские корбали...
Царское Село - Москва

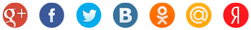 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments