02.10.1997
Николай Малинин //
Независимая газета, 02.10.1997
Храм, в котором все не так. После 27-летней реставрации открыт храм Спаса на крови
информация:
-
где:
Россия. Москва
Поначалу около Казанского собора хотели поставить памятники Петру и Павлу, апостолам. Отыскали в Финляндии две гранитные глыбы, но первая затонула при погрузке, а вторая застряла в Аптекарском переулке.
Там и пролежала полвека, пока из нее не соорудили 25-тонную подушку, на которую поставили храм Спаса на крови.
Таким образом, тяготение к "утонуть" и "застрять" оказалось непосредственно в его фундаменте. Обязанный стремиться к небу, храм подсознанием своим обречен воде, а "застревание" стало его фирменным знаком: строился храм 24 года, реставрировался - 27.
Не говоря уж о том, что убит был император только с восьмой попытки.
Храм не отсюда
Истинные петербуржцы Спас на Крови не любят. Бегут его, как Мопассан Эйфелевой башни. И яркий он слишком, и городу чужероден, и контекст портит; "шкатулка", говорят, "бонбоньерка". Что за всем этим стоит? Что слишком в нем "Москвы" много.
Проще всего назвать его "петербургским изданием храма Василия Блаженного". В тридцатые именно так мотивировали необходимость сноса: жалкое, мол, подражание. Но стоит заретушировать пять разноцветных главок - и на этом сходство кончится. Останется принципиальное различие планировок (Василий Блаженный центричен, Спас на крови вытянут кораблем) да ориентация Спаса на московское и ярославское зодчество ХУ11 века. "Только то, что в московском храме является аутентичным, - пишет петербургский критик Кира Долинина, - у Парланда превращается в аляповатую декорацию".
Отнесем "аляповатость" на счет вечного раздора между "стильным городом" Питером и "нестильной" Москвой, а вот что "декорация" - это точно. Уже сама идея включить в интерьер пятачок, где лежал раненый царь, да еще с сохранением подлинных булыжников тротуара, да со следами крови - на рубеже ХХ века как-то неприлично театральна. Или такая мелочь, как мраморные скамейки, на которых никогда не сидели (понадобившиеся чтобы замаскировать трубы калориферов). А после войны здесь хранились декорации оперного театра (пока не сгорели, не выдержав накала театральности).
"Ель моя, ель, словно Спас на крови, твой силуэт отдаленный" - поет Окуджава, но все равно имеет в виду елку новогоднюю: наряженую, ряженую. Христос здесь также на редкость многолик (канон не был задан, у каждого из 30 художников, расписывавших храм - Христос свой). Наконец, допустим крамольную мысль, что и ориентация Спаса на храм Василия Блаженного тоже неслучайна: в сознании современников Александр II был чем-то вроде юродивого - крестьян освобождал да конституцию вынашивал.
...Храм переиграл много ролей: был мемориалом, кафедральным собором, овощехранилищем, музеем. Настоящий же денди (каковым мнит себе Петербург) не может позволить себе такого лицедейства. Это прерогатива кокотки Москвы.
Храм, да не там
Мало кто в столице откликнется на словосочетание "Покровский собор". Так и тут: редкий прохожий среагирует на "храм Воскресения Христова". "Спасом" он стал по фасадной мозаике, что же до "крови", то в свете оче-видного стояния храма на воде, возникает мрачное ощущение, что канал полон крови. (Естественным образом потребовалось переименовать его в память чьей-нибудь еще крови - например, Грибоедова). "Бросить все в канаву, и концы в воду, и дело с концом" - прямо как у Раскольникова.
Собственно говоря, и сам город стоит на крови и костях безвестных своих строителей. И также как город на обочине (моря, света), так и храм - на краю. Чтобы соблюсти царево условие включить в интерьер место убийства, пришлось вдвигать здание в канал, сооружая ту самую подушку. Получился эдакий утес, на груди которого ночует тучка золотая - куполок колокольни.
Ладно бы по колено в воде, но он еще и поперек дороги выскочкой торчит, набережную перегораживая, да и Михайловского сада решетку подвинул. Случай совершенно немыслимый в городе, где все продумано и строго геометрично. Остается предположить, что храм возник именно в тот момент, когда рационализм XIX века был предан обструкции, и дорога земная стала казаться не столь важна, как вертикаль...
Но та же нелогичность и во внутреннем убранстве. Как мозаика полностью покрывает все стены храма, так и мрамор плавно перетекает с них на скамейки, со скамеек - на пол, и нет ни сантиметра вне мрамора. Мрамор и смальта: как прочность земли, которой в Петербурге никогда не было, - и сияние солнца, с которым тоже есть проблемы.
При всех этих вопиющих несообразностях, храм - не что иное, как возвращение к изначальному пункту. Памятник совсем не Александру-Освободителю, а Петру-Основателю. Ведь вся преловутая разумность и логичность этого города нанизана на его изначальную абсурдность (край, болото, блестящая ошибка). Появление храма не там, где требуют соображения градостроительства, а там, где "случилось" - очевидная дань культу смерти. Которая всегда неуместна.
Храм не про то
Вероятно, впервые в своей истории город решился отрефлектировать то, чему тайно поклонялся. (Что только в ХХ веке обналичили поэты, приходившие умирать на Васильевский остров и приезжавшие за тем же в "Англетер"). Красота смерти - за это Питер будет стоять насмерть. И если царь готов был умереть некрасиво (мальчик Бенуа ужасно сокрушался, что император "как заяц", зигзагами, удирал от каракозовских пуль) - то город должен покрыть этот просчет. "В Петербурге жить - словно спать в гробу", а вот умирать - означает обратное: обретать подлинную красоту. "На моих глазах, - вспоминал Добужинский годы разрухи, - город умирал смертью необычайной красоты"...
Вторая война все кругом рушила, а храм - спасла: снос намечался на лето сорок первого. Правда, в купол попал снаряд и застрял прямо у Христа под мышкой (словно бомба Рысакова, не достигшая цели). Его обнаружили только в 1961 году, когда взоры обратились к небу, где пролетал Гагарин. Снаряд опустили на матрасы, и также бережно, как и раненого царя, вывезли с проклятого места. К всему, что гибелью грозит, в Питере относятся нежно.
Смерть в разных своих ипостасях непременно присутствует в судьбе храма. Эмалевые купола делали с применением цинка и мышьяка (неизвестно, были ли жертвы, но современные реставраторы от этого рецепта отказались категорически). Зато те же реставраторы воссоздавали мозаику с использованием битого фарфора. Наконец, во время войны тут был морг...
Тем не менее, ничего траурного, подобного Пискаревскому кладищу, тут не вышло. Даром, что один из мастеров-мозаичистов носил фамилию Зощенко. Вообще мозаики изначально не предполагалось. Стены хотели покрыть традиционной росписью, но и Васнецов и Нестеров от этого предложения отказались. Тут-то у Парланда и возникла идея мозаики - которая вмиг сделала храм веселым и радостным. Семантика изменилась прямо в процессе строительства; словно бы подвыпившие на поминках гости устали от покойника: жизнь, мол, продолжается, гаудеамус!
Мозаика занимает практически все стены - семь тыщ квадратных метров. Эту цифру обязательно называют все экскурсоводы. Они же с упоением перечисляют названия камней, украшающих храм: левантийский мрамор, киевский лабрадор, орлец, яшма, агат, нефрит и горный хрусталь. Слова эти мало что говорят нам, но они такие красивые! А еще гиды взахлеб перевирают сумму, в которую встал храм: три миллиона, четыре, пять... С тем же энтузиазмом Парланд выкладывал по фасаду гербы городов, внесших свою лепту в строительство: "наши спонсоры".
В общем, памятник получился совсем не тому, чему ставили. Не убитому монарху, а новой эпохе, не Александру II, а Александру III. "Какая-то смесь официальной народности с прерафаэлитами!" - в сердцах бросил питерский историк Лев Лурье.
Храм не для того
Не только идеологическое значение храма оказалось смещенным, но и его практическое назначение. Тут не крестили, не венчали, не отпевали. Не было и прихода, поскольку храм был государственный (подобный статус имели только Исаакий и храм Христа Спасителя). Здесь молилась царская семья, а народ благоговейно стоял за воротами. Что опять-таки противоречило тому, как сделана роспись - столь внятно и понятно, что весьма смахивала на "детскую Библию": как будто высочайшие особы плохо разбирались в предмете. (Сейчас, кстати, попасть в храм не легче, чем при "жизни": несмотря на то, что билет стоит 15 тысяч, народ идет валом, а очереди в первые дни были до Невского).
Приходским храм стал только после революции, но ненадолго - до 1924 года, после чего оказался кафедральным собором: вместо закрытого Исаакия. Прослужив церкви всего 33 года (как Иисус Христос), бездействовал - 40 (как Илья Муромец). Впрочем, успел послужить и другой религии. Поставленный "против" революции - постоянно ею оживляем: в 1934 году здесь открылась выставка, посвященная первомартовцам (т.е. не убиенному, а убийцам), а освящен храм будет через месяц - непосредственно 7 ноября.
Судя по всему, вокруг храма развернется традиционная борьба: музей "Исаакиевский собор", филиалом которого с 1970 года является Спас, будет настаивать на том, чтобы храм был музеем (к тому же - весьма доходным), у церкви, понятно, свои планы. Удивляться нечему, история храма прямо-таки соткана из противоречий: в 1882 году победу в конкурсе на проект храма одержал именно союз искусства и церкви. Ни архитектор Альфред Парланд, ни настоятель Троице-Сергиевой пустыни отец Игнатий (Малышев) поодиночке не могли рассчитывать на успех в состязании, в котором принимали участие такие мастера, как Гун, Бенуа, Китнер, Султанов. Однако, объединив свои усилия, они взяли вверх.
Александр Бенуа, обиженный за брата Леонтия (чей проект был отвергнут, невзирая на упех им же созданной временной часовни), писал так: "К государю проник со своим проектом (пользуясь связями с духовенством и низшими служащими) архитектор Парланд, и его чудовищное измышление, поднесенное в очень эффектной раскраске, нашло себе высочайшее одобрение". А конкурс, кстати, выиграл архитектор Антон Томишко. Царь, правда, его проект отклонил, и в конце концов после Томишко осталось единственное завершенное здание: "Кресты".
Храм, да не вам
...Постоянное утверждение нелогичности, неправильности, борьба с естеством: за ради чего? Может быть, только ради самой этой борьбы? Все упоение в бою, и вечно где-то на краю (у бездны мрачной). В 1926 году храмом завладели "иосифляне", самые дерзкие антисоветчики: словно испытывали на прочность. И бомбило его, и подтапливало, и горел он, и протекал, а уж сколько раз снести хотели... В 60-е стали строить мост и прокладывать трамвайную линию: разрушили всю гидроизоляцию, вода стала идти в подвал, мозаика - покрываться плесенью. И вот что характерно: мозаика - материал вечный, однако предки наши наготовили ее впрок. Как будто что подозревали.
Никакой логики: начиная с того, что Александр II меньше всех заслуживал такой расправы. "Алеша, разве это народ! - стонет булгаковский Мышлаевский. - Ведь это бандиты. Профессиональный союз цареубийц. Петр Третий... Ну что он им сделал? Что?.. А этот... Забыл, как его. С бакенбардами, симпатичный, дай, думаю, мужикам приятное сделаю, освобожу их, чертей полосатых. Так его бомбой за это..."
Короче, ни в каких привычных рамках Спас на крови рассматривать невозможно. С точки зрения архитектуры - плохо, вяло, вторично. В смысле живописи - богато, но некрасиво (Нестеров считал свои работы здесь "самыми слабыми из всех, когда-либо сделанных мною образов"). С точки зрения градостроительства - нелогично. В религиозном отношении - нелепо, почти непристойно. Как мемориал - чересчур фривольно...
Все встает на свои места, если рассматривать храм как образец кэмпа. Идеал кэмпа - неестественность, преувеличенность; все "чересчур". Искусство прежде всего как декорация; бытие как исполнение роли. Вещь как чистая искусственность; вещь-которая-суть-то-чем-она-не-является. Кэмп видит все в кавычках цитации, но это не элитарность, а самое массовое, всем доступное наслаждение. Абсолютная серьезность, наивность и невинность. Это казалось банальным, но со временем стало фантастичным. Гармония невозможна, возможны только "фрагменты" (храм то строится, то в лесах). Это, конечно, неудача, но она с легкостью обращается в успех.
Все сходится. Каноны кэмпа, вычерченные Сюзен Зонтаг, идеально отвечают всем несообразностям храма. Заминка одна: "кэмп и трагедия - антитезы, - пишет Зонтаг, - там никогда, никогда нет трагедии". Что ж, это означает одно: Спас на крови - это кэмп по-русски.
Санкт-Петербург - Москва
Комментарии Таким образом, тяготение к "утонуть" и "застрять" оказалось непосредственно в его фундаменте. Обязанный стремиться к небу, храм подсознанием своим обречен воде, а "застревание" стало его фирменным знаком: строился храм 24 года, реставрировался - 27.
Не говоря уж о том, что убит был император только с восьмой попытки.
Храм не отсюда
Истинные петербуржцы Спас на Крови не любят. Бегут его, как Мопассан Эйфелевой башни. И яркий он слишком, и городу чужероден, и контекст портит; "шкатулка", говорят, "бонбоньерка". Что за всем этим стоит? Что слишком в нем "Москвы" много.
Проще всего назвать его "петербургским изданием храма Василия Блаженного". В тридцатые именно так мотивировали необходимость сноса: жалкое, мол, подражание. Но стоит заретушировать пять разноцветных главок - и на этом сходство кончится. Останется принципиальное различие планировок (Василий Блаженный центричен, Спас на крови вытянут кораблем) да ориентация Спаса на московское и ярославское зодчество ХУ11 века. "Только то, что в московском храме является аутентичным, - пишет петербургский критик Кира Долинина, - у Парланда превращается в аляповатую декорацию".
Отнесем "аляповатость" на счет вечного раздора между "стильным городом" Питером и "нестильной" Москвой, а вот что "декорация" - это точно. Уже сама идея включить в интерьер пятачок, где лежал раненый царь, да еще с сохранением подлинных булыжников тротуара, да со следами крови - на рубеже ХХ века как-то неприлично театральна. Или такая мелочь, как мраморные скамейки, на которых никогда не сидели (понадобившиеся чтобы замаскировать трубы калориферов). А после войны здесь хранились декорации оперного театра (пока не сгорели, не выдержав накала театральности).
"Ель моя, ель, словно Спас на крови, твой силуэт отдаленный" - поет Окуджава, но все равно имеет в виду елку новогоднюю: наряженую, ряженую. Христос здесь также на редкость многолик (канон не был задан, у каждого из 30 художников, расписывавших храм - Христос свой). Наконец, допустим крамольную мысль, что и ориентация Спаса на храм Василия Блаженного тоже неслучайна: в сознании современников Александр II был чем-то вроде юродивого - крестьян освобождал да конституцию вынашивал.
...Храм переиграл много ролей: был мемориалом, кафедральным собором, овощехранилищем, музеем. Настоящий же денди (каковым мнит себе Петербург) не может позволить себе такого лицедейства. Это прерогатива кокотки Москвы.
Храм, да не там
Мало кто в столице откликнется на словосочетание "Покровский собор". Так и тут: редкий прохожий среагирует на "храм Воскресения Христова". "Спасом" он стал по фасадной мозаике, что же до "крови", то в свете оче-видного стояния храма на воде, возникает мрачное ощущение, что канал полон крови. (Естественным образом потребовалось переименовать его в память чьей-нибудь еще крови - например, Грибоедова). "Бросить все в канаву, и концы в воду, и дело с концом" - прямо как у Раскольникова.
Собственно говоря, и сам город стоит на крови и костях безвестных своих строителей. И также как город на обочине (моря, света), так и храм - на краю. Чтобы соблюсти царево условие включить в интерьер место убийства, пришлось вдвигать здание в канал, сооружая ту самую подушку. Получился эдакий утес, на груди которого ночует тучка золотая - куполок колокольни.
Ладно бы по колено в воде, но он еще и поперек дороги выскочкой торчит, набережную перегораживая, да и Михайловского сада решетку подвинул. Случай совершенно немыслимый в городе, где все продумано и строго геометрично. Остается предположить, что храм возник именно в тот момент, когда рационализм XIX века был предан обструкции, и дорога земная стала казаться не столь важна, как вертикаль...
Но та же нелогичность и во внутреннем убранстве. Как мозаика полностью покрывает все стены храма, так и мрамор плавно перетекает с них на скамейки, со скамеек - на пол, и нет ни сантиметра вне мрамора. Мрамор и смальта: как прочность земли, которой в Петербурге никогда не было, - и сияние солнца, с которым тоже есть проблемы.
При всех этих вопиющих несообразностях, храм - не что иное, как возвращение к изначальному пункту. Памятник совсем не Александру-Освободителю, а Петру-Основателю. Ведь вся преловутая разумность и логичность этого города нанизана на его изначальную абсурдность (край, болото, блестящая ошибка). Появление храма не там, где требуют соображения градостроительства, а там, где "случилось" - очевидная дань культу смерти. Которая всегда неуместна.
Храм не про то
Вероятно, впервые в своей истории город решился отрефлектировать то, чему тайно поклонялся. (Что только в ХХ веке обналичили поэты, приходившие умирать на Васильевский остров и приезжавшие за тем же в "Англетер"). Красота смерти - за это Питер будет стоять насмерть. И если царь готов был умереть некрасиво (мальчик Бенуа ужасно сокрушался, что император "как заяц", зигзагами, удирал от каракозовских пуль) - то город должен покрыть этот просчет. "В Петербурге жить - словно спать в гробу", а вот умирать - означает обратное: обретать подлинную красоту. "На моих глазах, - вспоминал Добужинский годы разрухи, - город умирал смертью необычайной красоты"...
Вторая война все кругом рушила, а храм - спасла: снос намечался на лето сорок первого. Правда, в купол попал снаряд и застрял прямо у Христа под мышкой (словно бомба Рысакова, не достигшая цели). Его обнаружили только в 1961 году, когда взоры обратились к небу, где пролетал Гагарин. Снаряд опустили на матрасы, и также бережно, как и раненого царя, вывезли с проклятого места. К всему, что гибелью грозит, в Питере относятся нежно.
Смерть в разных своих ипостасях непременно присутствует в судьбе храма. Эмалевые купола делали с применением цинка и мышьяка (неизвестно, были ли жертвы, но современные реставраторы от этого рецепта отказались категорически). Зато те же реставраторы воссоздавали мозаику с использованием битого фарфора. Наконец, во время войны тут был морг...
Тем не менее, ничего траурного, подобного Пискаревскому кладищу, тут не вышло. Даром, что один из мастеров-мозаичистов носил фамилию Зощенко. Вообще мозаики изначально не предполагалось. Стены хотели покрыть традиционной росписью, но и Васнецов и Нестеров от этого предложения отказались. Тут-то у Парланда и возникла идея мозаики - которая вмиг сделала храм веселым и радостным. Семантика изменилась прямо в процессе строительства; словно бы подвыпившие на поминках гости устали от покойника: жизнь, мол, продолжается, гаудеамус!
Мозаика занимает практически все стены - семь тыщ квадратных метров. Эту цифру обязательно называют все экскурсоводы. Они же с упоением перечисляют названия камней, украшающих храм: левантийский мрамор, киевский лабрадор, орлец, яшма, агат, нефрит и горный хрусталь. Слова эти мало что говорят нам, но они такие красивые! А еще гиды взахлеб перевирают сумму, в которую встал храм: три миллиона, четыре, пять... С тем же энтузиазмом Парланд выкладывал по фасаду гербы городов, внесших свою лепту в строительство: "наши спонсоры".
В общем, памятник получился совсем не тому, чему ставили. Не убитому монарху, а новой эпохе, не Александру II, а Александру III. "Какая-то смесь официальной народности с прерафаэлитами!" - в сердцах бросил питерский историк Лев Лурье.
Храм не для того
Не только идеологическое значение храма оказалось смещенным, но и его практическое назначение. Тут не крестили, не венчали, не отпевали. Не было и прихода, поскольку храм был государственный (подобный статус имели только Исаакий и храм Христа Спасителя). Здесь молилась царская семья, а народ благоговейно стоял за воротами. Что опять-таки противоречило тому, как сделана роспись - столь внятно и понятно, что весьма смахивала на "детскую Библию": как будто высочайшие особы плохо разбирались в предмете. (Сейчас, кстати, попасть в храм не легче, чем при "жизни": несмотря на то, что билет стоит 15 тысяч, народ идет валом, а очереди в первые дни были до Невского).
Приходским храм стал только после революции, но ненадолго - до 1924 года, после чего оказался кафедральным собором: вместо закрытого Исаакия. Прослужив церкви всего 33 года (как Иисус Христос), бездействовал - 40 (как Илья Муромец). Впрочем, успел послужить и другой религии. Поставленный "против" революции - постоянно ею оживляем: в 1934 году здесь открылась выставка, посвященная первомартовцам (т.е. не убиенному, а убийцам), а освящен храм будет через месяц - непосредственно 7 ноября.
Судя по всему, вокруг храма развернется традиционная борьба: музей "Исаакиевский собор", филиалом которого с 1970 года является Спас, будет настаивать на том, чтобы храм был музеем (к тому же - весьма доходным), у церкви, понятно, свои планы. Удивляться нечему, история храма прямо-таки соткана из противоречий: в 1882 году победу в конкурсе на проект храма одержал именно союз искусства и церкви. Ни архитектор Альфред Парланд, ни настоятель Троице-Сергиевой пустыни отец Игнатий (Малышев) поодиночке не могли рассчитывать на успех в состязании, в котором принимали участие такие мастера, как Гун, Бенуа, Китнер, Султанов. Однако, объединив свои усилия, они взяли вверх.
Александр Бенуа, обиженный за брата Леонтия (чей проект был отвергнут, невзирая на упех им же созданной временной часовни), писал так: "К государю проник со своим проектом (пользуясь связями с духовенством и низшими служащими) архитектор Парланд, и его чудовищное измышление, поднесенное в очень эффектной раскраске, нашло себе высочайшее одобрение". А конкурс, кстати, выиграл архитектор Антон Томишко. Царь, правда, его проект отклонил, и в конце концов после Томишко осталось единственное завершенное здание: "Кресты".
Храм, да не вам
...Постоянное утверждение нелогичности, неправильности, борьба с естеством: за ради чего? Может быть, только ради самой этой борьбы? Все упоение в бою, и вечно где-то на краю (у бездны мрачной). В 1926 году храмом завладели "иосифляне", самые дерзкие антисоветчики: словно испытывали на прочность. И бомбило его, и подтапливало, и горел он, и протекал, а уж сколько раз снести хотели... В 60-е стали строить мост и прокладывать трамвайную линию: разрушили всю гидроизоляцию, вода стала идти в подвал, мозаика - покрываться плесенью. И вот что характерно: мозаика - материал вечный, однако предки наши наготовили ее впрок. Как будто что подозревали.
Никакой логики: начиная с того, что Александр II меньше всех заслуживал такой расправы. "Алеша, разве это народ! - стонет булгаковский Мышлаевский. - Ведь это бандиты. Профессиональный союз цареубийц. Петр Третий... Ну что он им сделал? Что?.. А этот... Забыл, как его. С бакенбардами, симпатичный, дай, думаю, мужикам приятное сделаю, освобожу их, чертей полосатых. Так его бомбой за это..."
Короче, ни в каких привычных рамках Спас на крови рассматривать невозможно. С точки зрения архитектуры - плохо, вяло, вторично. В смысле живописи - богато, но некрасиво (Нестеров считал свои работы здесь "самыми слабыми из всех, когда-либо сделанных мною образов"). С точки зрения градостроительства - нелогично. В религиозном отношении - нелепо, почти непристойно. Как мемориал - чересчур фривольно...
Все встает на свои места, если рассматривать храм как образец кэмпа. Идеал кэмпа - неестественность, преувеличенность; все "чересчур". Искусство прежде всего как декорация; бытие как исполнение роли. Вещь как чистая искусственность; вещь-которая-суть-то-чем-она-не-является. Кэмп видит все в кавычках цитации, но это не элитарность, а самое массовое, всем доступное наслаждение. Абсолютная серьезность, наивность и невинность. Это казалось банальным, но со временем стало фантастичным. Гармония невозможна, возможны только "фрагменты" (храм то строится, то в лесах). Это, конечно, неудача, но она с легкостью обращается в успех.
Все сходится. Каноны кэмпа, вычерченные Сюзен Зонтаг, идеально отвечают всем несообразностям храма. Заминка одна: "кэмп и трагедия - антитезы, - пишет Зонтаг, - там никогда, никогда нет трагедии". Что ж, это означает одно: Спас на крови - это кэмп по-русски.
Санкт-Петербург - Москва

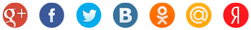 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments