20.11.1998
Николай Малинин //
Независимая газета, 20.11.1998
Камергерский ключик. Новая пешеходная зона подле МХАТа
- Урбанистика / Градостроительство
информация:
-
где:
Россия. Москва
Устроившись работать смотрителем фасадов, Довлатов сильно удивился: надо же, всю жизнь был смотрителем фасадов, вот только денег за это не получал. Создание пешеходной зоны чем-то все это напоминает.
В ряду возможных градостроительных свершений оно занимает одно из предпоследних мест. Это все-таки не храм отгрохать, не памятник воздвигнуть. Все остается почти как было, только статус чуть-чуть меняется. Тем более, что переулки вроде Камергерского и так не большое раздолье мерседесам. Вся Москва скоро будет вишневый сад и одна большая пешеходная зона. (Если пробки не сами собой рассосутся, у Лужкова есть изящный шанс: объявить их пешеходными зонами).
На последнем же месте в списке градодеяний находятся, вероятно, переименования улиц. Когда проезду Художественного театра возвращали старое название, москвичи бурно возмущались. Что, мол, за камергеры такие, еще б Камердинерским нарекли. Камергер, однако, не так уж плохо: четвертый класс в табели о рангах, золотой ключ на голубой ленте. Но аберрация та была вполне понятна: камергер казался тем же камердинером, то бишь слугой, но только еще и высокого статуса. У этого заблуждения была и своя историческая правда. В годы, когда МХАТ тихо деградировал, теряя свою оппозиционность, москвичи грустно шутили: Камергерский театр в Художественном проезде. Именно тогда, наверное, Ахматова считала поход во МХАТ "унижением", а Розанов (правда, почему-то еще раньше) противопоставлял церковь - цирку, чаю, митингу и Художественному театру.
Так что создание пешеходной зоны в Камергерском переулке выглядит своего рода компенсацией за проезд Художественного театра. Переулок теперь снова художественный. Даже высокохудожественный. И чаю есть где напиться, и митинги можно под Чеховым собирать, ну а в роли циркачек будут выступать обладательницы тонких каблучков, которым придется приложить немало усилий, дабы не угодить в заботливо оставленные щели меж кирпичей новой мостовой. Но это, быть может, популярная во все века у архитекторов, мнящих себя демиургами, идея "сценария": каблучок попадает в дырочку, ломается, красавица останавливается, оглядывается по сторонам, оценивает духовный градус места - и у нее обязательно случается катарсис...
Само по себе создание пешеходной зоны - факт вроде бы отрадный. Гуманистический и вполне европейский. Кто будет спорить, что на старых уличках Вены или Праги особенно хорошо бродится, пьется пиво и беззаботно глазеется по сторонам. Другое дело, что там пешеходам выгораживаются целые кварталы, а еще лучше - старый город целиком. А там, где нет пражских ландшафтов или венских домиков, пешеходная зона оказывается синтезом парка и пассажа, идеальным пространством фланера. Плюс бесконечные кафе, которые образуют собственную субкультуру; плюс, извините, погодные условия. Без которых идея, увы, обретает толику комичности, что отметил - по поводу Петербурга - Астольф де Кюстин: "Для чего, спрашивается, наставили столько пилястров, аркад и колоннад в городе, в котором можно жить, только тщательно законопатив двойные рамы в окнах?"
Пешеходная улица Арбат представляет собою героическую попытку превозмочь московский климат. Этой улице вообще свойственнен некий надрыв (дети Арбата, Окуджава, Цой), который мало вяжется со всяческой уикэндностью, посему она являет грустное зрелище, наподобие дня рождения ослика Иа. Вроде бы надо веселиться, но не получается: ни зелени, ни скамеечек, вообще - холодная улица. Толпы же валят сюда, поскольку больше валить некуда. Но здесь, по крайней мере, есть хоть какое-то содержание: улица простирается от одной станции метро до другой, соединяет два кольца, составляет некую идеологическо-стилистическую оппозицию Новому Арбату, является связующим звеном арбатских переулков, насыщена памятниками архитектуры, музеями, магазинами, короче, тут есть что делать и есть куда идти. И даже если просто гулять - она достаточно длинна и осмысленна.
Новая же ПЗ в Камергерском переулке - не более чем островок безопасности. В масштабе города вполне бессмысленный и безнадежный. У него даже есть шанс попасть в книгу рекордов Гиннеса в качестве самой короткой пешеходной зоны в мире: всего-то шесть домов. Кроме того, он не стоит ни в малейшей связи с окружающим, ниоткуда не идет и никуда не выводит. Мало того, что переулок стоит на бугре и тем самым не слишком располагает к меланхолическому брожению, он одним концом упирается в безумие Тверской, а другим - растворяется в хаосе Кузнецкого. Наконец, он катастрофически пуст. Здесь нет ни одного важного культурного объекта, кроме МХАТа - ни музея, ни галереи, ни шедевров архитектуры; разве что предприятия общественного и антиобщественного питания. Плюс колониальная чайная лавка памяти Павла Чехова.
Выходит, что новая пешеходная зона есть праздничное подношение театру и больше ничего. "Открытое, воздушное фойе МХАТа" - как выразился на открытии мэр. То есть, создана она исключительно вокруг и ради театра. Именно он является ее смысловым и эстетическим содержанием. Фирменный мхатовский узор лег не только на фонари и скамейки (довольно, кстати, неудобные, остротой спинки мешающие откинуться - и тем, видимо, задающие особую атмосферу приподнятости и нерасслабленности), но даже на урны. Это, видимо, тот самый синтез искусств, о котором так много говорили большевики циркуля и кисти. И повторилось все, и все довоплотилось, и нам приснилось то, что видели во сне отцы-основатели театра. Странно только, что по привычке к "новоделам", не прилепили к дому фасад, Шехтелем задуманный, но неосуществленный. Это было бы не менее радикальным жестом, чем воссоздание ХХС, ибо тот фасад был и красив, и необычен, и кроме того являл собою, по словам Евгении Кириченко, "одну из немногих в России попыток создать новый, лишенный привычных атрибутов облик театрального здания".
Понятно, что за сто лет существующий фасад театра стал таким же его неотменимым символом, как и чайка - хотя по сути-то фасада нет. Можно, конечно, увязать "бесфасадие" здания с общим замыслом театра, где ничто не должно отвлекать зрителя от творящегося на сцене действа. "В отделке театра, - радовался Станиславский, - не было допущено ни одного яркого и золотого пятна, чтобы без нужды не утомлять глаз зрителей и приберечь эффект ярких красок исключительно для декораций и обстановки сцены". Но в проекте-то фасад был, и подразумевал не только аскетическое "зачищение" фасада (с ликвидацией пошленьких наличников, оставшихся от Чичагова), не только модную европейскую расстекловку окон, но и роскошное керамическое панно из переливающихся серо-коричневых изразцов, да еще с театральной маской наверху - то есть, то самое "яркое пятно", так претившее Станиславскому.
Традиционное объяснение несвершившемуся фасаду сводится к банальной нехватке средств. Но известно, что Савва Морозов денег на театр не жалел (как и собственного здоровья - днюя и ночуя на стройплощадке), а уж кому как не купцу было понимать, что товар надо подавать лицом, а дом, соответственно, фасадом. Поскольку же до конфликта 1904 года, когда Савва оставил МХТ, было еще далеко, остается предположить, что такой фасад театру действительно не подходил. Что, однако, кажется весьма странным при том адекватном (и вполне гениальном) решении интерьеров, которое сделал Шехтель. Есть и еще одна загвоздка: на описанном нами проекте фасада четко читаются четыре буквы: "М. Х. А. Т.", тогда как звание академического театр получил только в 1919 году. Считается, что этот рисунок Шехтель делал специально для музея театра, повторяя оригинал, однако никаких других проектов, которые были бы датированы началом века, не сохранилось (не говоря уж о том, что в центральной части здания пять окон и гармонично вписать в них три буквы было бы непросто).
Итак, мы имеем очевидное отсутствие фасада и неочевидность изначального замысла. Что же - в свете юбилея - оставалось делать московской власти, которая болезенно переживает бесфасадность (а значит, без-личие) собственной архитектуры и мучительно пытается подобрать хоть какую-то метафору для "омосковления" ее, тычась в небо бессильными башенками? Правильно: компенсировать отсутствие фасада созданием пешеходной зоны. Которая станет не только фойе, но и как бы фасадом театра. Эта робкая попытка доделать явно недоделанное свидетельствует о несомненном наличии интуиции у нашего градсовета, а само стилистическое решение зоны, выбор ее модуля и вовсе заслуживают восхищения. Еще и потому, что здесь современные зодчие идут вослед Шехтелю, который умел виньетку превратить в здание - словно бы одним взмахом пантографа.
Говоря о фасаде МХАТа, каждый вспомнит парадную дверь с модерным узором, великолепно вычерченные дверные ручки, голубкинского "Пловца", и, конечно - фонари. Они-то, собственно, и стали заместителем отсутствующего фасада - что для Шехтеля вообще характерно: роль фасада у него играет то угловая башня (как в особняке Саввы Морозова), то окно (как в доме Дерожинской). Конечно, ему и в голову не могло прийти, что вокруг этих фонарей будет устроена такая пляска и они выстроятся шпалерами по переулку. Точно также он не догадывался, что небрежно набросанная им чайка превратится в большой символ большого театра. Птица-то мерзкая, красивая только на расстоянии - что никак не вязалось с психологическим реализмом МХТ; и в пьесе образ чайки довольно гадкий, да и возникновение ее отдает пошлятиной: первую из этих расплодившихся позже чаек застрелил Левитан и бросил к ногам своей пассии, а перед этим стрелялся сам, будучи не в силах выбрать между Кувшинниковой и Турчаниновыми - матерью и дочью. И слава богу, что авторы пешеходной зоны, г-да Посохин и Фельдман, выбрали в качестве модуля все-таки фонарь, а не чайку. (Хотя призрак такого решения и мелькает на праздничном плакате: чайка летит, а МХАТ захлестывают волны наводнения. Каковое наводнение ровно в день открытия пешеходной зоны в Москве все-таки случилось: в Малом Манеже открылась выставка Зураба Церетели).
Фонари же эти, может быть, лучшее - наряду с Ярославским вокзалом - что вообще сделал Шехтель. Они, конечно, непростые: в них уже обозначился тот слом витальной линии модерна, который найдет выход в рационализме, и дальше - в конструктивизме, а потому особенно они хороши на фоне здания Телеграфа. И если Мейерхольд панически боялся, что линия модерна, и так заполонившая собою все, придет в театр и все опошлит, то Шехтель спокойно делаает шаг вперед. Характерный для модерна мотив волны превращается здесь в нечто вполне фольклорное - не то розу, не то конскую голову; абстрактно-романтическое море покорно ложится к изголовью избяной-лубяной России. Но еще более замечательно, что "отодранные" от фасада и вознесенные на непомерную высоту, они оказываются согбенными и печальными, чем обнаруживают неожиданное родство с притулившимся здесь же Чеховым.
В скульптуре как роде искусства есть очевидная доступность, иначе именуемая "антропоморфизм". Памятники суть те же люди ("скучно Пушкину, чугунному ропщется"), и чем дальше - тем больше. В пику привычному советскому гигантизму проклюнулась мода на минимализацию. Монументы последних дней намекают не токмо на сомасштабность гения зрителю, но более того - на то, что он также "мал и мерзок". Если прежние памятники призваны возвеличить и вознести героя, нынешние - умалить и очеловечить. Мучается геморроем московский Достоевский, скрючился питерский, откровенно дегероизирован шемякинский Петр: жаленький такой, тощеногий, голова - яичком, в плечах не то что сажень косая - вершок, дай бог, или два - если от горшка.
Эту линию продолжает и Чехов. Тихий, тощий, задвинутый в угол, он робко жмется к подставочке - как застенчивая девушка на дискотеке льнет к стенке в ожидании приглашения. В профиль он напоминает Воровского, скрючившегося на перекрестке Лубянки и Кузнецкого, но в анфас - это уже скорее Артур Миллер, высокий и элегантный. Судя по всему, любимая интеллигенцией тема несоответствия образа Чехова его реальному росту была в работе Аникушина главной. Теперь уже никто не засомневается: высок и справедлив. Постамент, конечно, уж больно смахивает на граниты московского метро - но ведь метро это такая же гордость города, как и МХАТ? Даром, что ли рядом с московским флагом и российским триколором появился флаг театра? Этих простым ходом культура как бы получает все недодаваемое ей нынче - с той же легкостью, с какой шехтелевский рисунок становится темой всего переулка...
Конечно, он слишком короток, пуст и жалок. Числить его по ведомству досуга - невоможно, сравнивать с западными образцами - бессмысленно. Но если оказаться здесь поздно вечером, когда хлещет проливной дождь и нет ни одного человека, только Чехов, МХАТ и фонари (пусть не гаснут до зари), то тогда открывается его подлинная сущность - не имеющая никакого практического смысла, абсурдная, сюрреалистическая. Такая же прекрасная в своей нелепости, как и неосуществленный шехтелевский фасад.
Чайка улетает.
Фотограф щелкает.
Комментарии На последнем же месте в списке градодеяний находятся, вероятно, переименования улиц. Когда проезду Художественного театра возвращали старое название, москвичи бурно возмущались. Что, мол, за камергеры такие, еще б Камердинерским нарекли. Камергер, однако, не так уж плохо: четвертый класс в табели о рангах, золотой ключ на голубой ленте. Но аберрация та была вполне понятна: камергер казался тем же камердинером, то бишь слугой, но только еще и высокого статуса. У этого заблуждения была и своя историческая правда. В годы, когда МХАТ тихо деградировал, теряя свою оппозиционность, москвичи грустно шутили: Камергерский театр в Художественном проезде. Именно тогда, наверное, Ахматова считала поход во МХАТ "унижением", а Розанов (правда, почему-то еще раньше) противопоставлял церковь - цирку, чаю, митингу и Художественному театру.
Так что создание пешеходной зоны в Камергерском переулке выглядит своего рода компенсацией за проезд Художественного театра. Переулок теперь снова художественный. Даже высокохудожественный. И чаю есть где напиться, и митинги можно под Чеховым собирать, ну а в роли циркачек будут выступать обладательницы тонких каблучков, которым придется приложить немало усилий, дабы не угодить в заботливо оставленные щели меж кирпичей новой мостовой. Но это, быть может, популярная во все века у архитекторов, мнящих себя демиургами, идея "сценария": каблучок попадает в дырочку, ломается, красавица останавливается, оглядывается по сторонам, оценивает духовный градус места - и у нее обязательно случается катарсис...
Само по себе создание пешеходной зоны - факт вроде бы отрадный. Гуманистический и вполне европейский. Кто будет спорить, что на старых уличках Вены или Праги особенно хорошо бродится, пьется пиво и беззаботно глазеется по сторонам. Другое дело, что там пешеходам выгораживаются целые кварталы, а еще лучше - старый город целиком. А там, где нет пражских ландшафтов или венских домиков, пешеходная зона оказывается синтезом парка и пассажа, идеальным пространством фланера. Плюс бесконечные кафе, которые образуют собственную субкультуру; плюс, извините, погодные условия. Без которых идея, увы, обретает толику комичности, что отметил - по поводу Петербурга - Астольф де Кюстин: "Для чего, спрашивается, наставили столько пилястров, аркад и колоннад в городе, в котором можно жить, только тщательно законопатив двойные рамы в окнах?"
Пешеходная улица Арбат представляет собою героическую попытку превозмочь московский климат. Этой улице вообще свойственнен некий надрыв (дети Арбата, Окуджава, Цой), который мало вяжется со всяческой уикэндностью, посему она являет грустное зрелище, наподобие дня рождения ослика Иа. Вроде бы надо веселиться, но не получается: ни зелени, ни скамеечек, вообще - холодная улица. Толпы же валят сюда, поскольку больше валить некуда. Но здесь, по крайней мере, есть хоть какое-то содержание: улица простирается от одной станции метро до другой, соединяет два кольца, составляет некую идеологическо-стилистическую оппозицию Новому Арбату, является связующим звеном арбатских переулков, насыщена памятниками архитектуры, музеями, магазинами, короче, тут есть что делать и есть куда идти. И даже если просто гулять - она достаточно длинна и осмысленна.
Новая же ПЗ в Камергерском переулке - не более чем островок безопасности. В масштабе города вполне бессмысленный и безнадежный. У него даже есть шанс попасть в книгу рекордов Гиннеса в качестве самой короткой пешеходной зоны в мире: всего-то шесть домов. Кроме того, он не стоит ни в малейшей связи с окружающим, ниоткуда не идет и никуда не выводит. Мало того, что переулок стоит на бугре и тем самым не слишком располагает к меланхолическому брожению, он одним концом упирается в безумие Тверской, а другим - растворяется в хаосе Кузнецкого. Наконец, он катастрофически пуст. Здесь нет ни одного важного культурного объекта, кроме МХАТа - ни музея, ни галереи, ни шедевров архитектуры; разве что предприятия общественного и антиобщественного питания. Плюс колониальная чайная лавка памяти Павла Чехова.
Выходит, что новая пешеходная зона есть праздничное подношение театру и больше ничего. "Открытое, воздушное фойе МХАТа" - как выразился на открытии мэр. То есть, создана она исключительно вокруг и ради театра. Именно он является ее смысловым и эстетическим содержанием. Фирменный мхатовский узор лег не только на фонари и скамейки (довольно, кстати, неудобные, остротой спинки мешающие откинуться - и тем, видимо, задающие особую атмосферу приподнятости и нерасслабленности), но даже на урны. Это, видимо, тот самый синтез искусств, о котором так много говорили большевики циркуля и кисти. И повторилось все, и все довоплотилось, и нам приснилось то, что видели во сне отцы-основатели театра. Странно только, что по привычке к "новоделам", не прилепили к дому фасад, Шехтелем задуманный, но неосуществленный. Это было бы не менее радикальным жестом, чем воссоздание ХХС, ибо тот фасад был и красив, и необычен, и кроме того являл собою, по словам Евгении Кириченко, "одну из немногих в России попыток создать новый, лишенный привычных атрибутов облик театрального здания".
Понятно, что за сто лет существующий фасад театра стал таким же его неотменимым символом, как и чайка - хотя по сути-то фасада нет. Можно, конечно, увязать "бесфасадие" здания с общим замыслом театра, где ничто не должно отвлекать зрителя от творящегося на сцене действа. "В отделке театра, - радовался Станиславский, - не было допущено ни одного яркого и золотого пятна, чтобы без нужды не утомлять глаз зрителей и приберечь эффект ярких красок исключительно для декораций и обстановки сцены". Но в проекте-то фасад был, и подразумевал не только аскетическое "зачищение" фасада (с ликвидацией пошленьких наличников, оставшихся от Чичагова), не только модную европейскую расстекловку окон, но и роскошное керамическое панно из переливающихся серо-коричневых изразцов, да еще с театральной маской наверху - то есть, то самое "яркое пятно", так претившее Станиславскому.
Традиционное объяснение несвершившемуся фасаду сводится к банальной нехватке средств. Но известно, что Савва Морозов денег на театр не жалел (как и собственного здоровья - днюя и ночуя на стройплощадке), а уж кому как не купцу было понимать, что товар надо подавать лицом, а дом, соответственно, фасадом. Поскольку же до конфликта 1904 года, когда Савва оставил МХТ, было еще далеко, остается предположить, что такой фасад театру действительно не подходил. Что, однако, кажется весьма странным при том адекватном (и вполне гениальном) решении интерьеров, которое сделал Шехтель. Есть и еще одна загвоздка: на описанном нами проекте фасада четко читаются четыре буквы: "М. Х. А. Т.", тогда как звание академического театр получил только в 1919 году. Считается, что этот рисунок Шехтель делал специально для музея театра, повторяя оригинал, однако никаких других проектов, которые были бы датированы началом века, не сохранилось (не говоря уж о том, что в центральной части здания пять окон и гармонично вписать в них три буквы было бы непросто).
Итак, мы имеем очевидное отсутствие фасада и неочевидность изначального замысла. Что же - в свете юбилея - оставалось делать московской власти, которая болезенно переживает бесфасадность (а значит, без-личие) собственной архитектуры и мучительно пытается подобрать хоть какую-то метафору для "омосковления" ее, тычась в небо бессильными башенками? Правильно: компенсировать отсутствие фасада созданием пешеходной зоны. Которая станет не только фойе, но и как бы фасадом театра. Эта робкая попытка доделать явно недоделанное свидетельствует о несомненном наличии интуиции у нашего градсовета, а само стилистическое решение зоны, выбор ее модуля и вовсе заслуживают восхищения. Еще и потому, что здесь современные зодчие идут вослед Шехтелю, который умел виньетку превратить в здание - словно бы одним взмахом пантографа.
Говоря о фасаде МХАТа, каждый вспомнит парадную дверь с модерным узором, великолепно вычерченные дверные ручки, голубкинского "Пловца", и, конечно - фонари. Они-то, собственно, и стали заместителем отсутствующего фасада - что для Шехтеля вообще характерно: роль фасада у него играет то угловая башня (как в особняке Саввы Морозова), то окно (как в доме Дерожинской). Конечно, ему и в голову не могло прийти, что вокруг этих фонарей будет устроена такая пляска и они выстроятся шпалерами по переулку. Точно также он не догадывался, что небрежно набросанная им чайка превратится в большой символ большого театра. Птица-то мерзкая, красивая только на расстоянии - что никак не вязалось с психологическим реализмом МХТ; и в пьесе образ чайки довольно гадкий, да и возникновение ее отдает пошлятиной: первую из этих расплодившихся позже чаек застрелил Левитан и бросил к ногам своей пассии, а перед этим стрелялся сам, будучи не в силах выбрать между Кувшинниковой и Турчаниновыми - матерью и дочью. И слава богу, что авторы пешеходной зоны, г-да Посохин и Фельдман, выбрали в качестве модуля все-таки фонарь, а не чайку. (Хотя призрак такого решения и мелькает на праздничном плакате: чайка летит, а МХАТ захлестывают волны наводнения. Каковое наводнение ровно в день открытия пешеходной зоны в Москве все-таки случилось: в Малом Манеже открылась выставка Зураба Церетели).
Фонари же эти, может быть, лучшее - наряду с Ярославским вокзалом - что вообще сделал Шехтель. Они, конечно, непростые: в них уже обозначился тот слом витальной линии модерна, который найдет выход в рационализме, и дальше - в конструктивизме, а потому особенно они хороши на фоне здания Телеграфа. И если Мейерхольд панически боялся, что линия модерна, и так заполонившая собою все, придет в театр и все опошлит, то Шехтель спокойно делаает шаг вперед. Характерный для модерна мотив волны превращается здесь в нечто вполне фольклорное - не то розу, не то конскую голову; абстрактно-романтическое море покорно ложится к изголовью избяной-лубяной России. Но еще более замечательно, что "отодранные" от фасада и вознесенные на непомерную высоту, они оказываются согбенными и печальными, чем обнаруживают неожиданное родство с притулившимся здесь же Чеховым.
В скульптуре как роде искусства есть очевидная доступность, иначе именуемая "антропоморфизм". Памятники суть те же люди ("скучно Пушкину, чугунному ропщется"), и чем дальше - тем больше. В пику привычному советскому гигантизму проклюнулась мода на минимализацию. Монументы последних дней намекают не токмо на сомасштабность гения зрителю, но более того - на то, что он также "мал и мерзок". Если прежние памятники призваны возвеличить и вознести героя, нынешние - умалить и очеловечить. Мучается геморроем московский Достоевский, скрючился питерский, откровенно дегероизирован шемякинский Петр: жаленький такой, тощеногий, голова - яичком, в плечах не то что сажень косая - вершок, дай бог, или два - если от горшка.
Эту линию продолжает и Чехов. Тихий, тощий, задвинутый в угол, он робко жмется к подставочке - как застенчивая девушка на дискотеке льнет к стенке в ожидании приглашения. В профиль он напоминает Воровского, скрючившегося на перекрестке Лубянки и Кузнецкого, но в анфас - это уже скорее Артур Миллер, высокий и элегантный. Судя по всему, любимая интеллигенцией тема несоответствия образа Чехова его реальному росту была в работе Аникушина главной. Теперь уже никто не засомневается: высок и справедлив. Постамент, конечно, уж больно смахивает на граниты московского метро - но ведь метро это такая же гордость города, как и МХАТ? Даром, что ли рядом с московским флагом и российским триколором появился флаг театра? Этих простым ходом культура как бы получает все недодаваемое ей нынче - с той же легкостью, с какой шехтелевский рисунок становится темой всего переулка...
Конечно, он слишком короток, пуст и жалок. Числить его по ведомству досуга - невоможно, сравнивать с западными образцами - бессмысленно. Но если оказаться здесь поздно вечером, когда хлещет проливной дождь и нет ни одного человека, только Чехов, МХАТ и фонари (пусть не гаснут до зари), то тогда открывается его подлинная сущность - не имеющая никакого практического смысла, абсурдная, сюрреалистическая. Такая же прекрасная в своей нелепости, как и неосуществленный шехтелевский фасад.
Чайка улетает.
Фотограф щелкает.

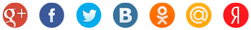 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments