|
Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |
|
| 14.04.2016 | |
|
Немецкая архитектура между модернизмом и традиционализмом |
|
|
Татьяна Гнедовская |
|
|
Публикуем статью Татьяны Гнедовской из сборника «Западное искусство. ХХ век. Тридцатые годы», презентация которого пройдет в Государственном институте искусствознания на следующей неделе. 18 апреля в ГИИ представят сборник статей «Западное искусство. ХХ век. Тридцатые годы», в котором собраны исследования на темы живописи, архитектуры, музыки, театра, кинематографа западноевропейских стран и США. Авторы попытались обнаружить закономерности, определившие художественное развитие Запада 1930-годов. Обложка сборника "Западное искусство. XX век. Тридцатые годы" © И.Б. Трофимов, оформление, 2016. Государственный институт искусствознанияС полной электронной версией сборника можно ознакомиться . А мы публикуем текст одной из статей. *** Татьяна Гнедовская Немецкая архитектура между модернизмом и традиционализмом До сих пор даже среди специалистов широко распространено мнение, что развитие модернистской архитектуры, начавшееся в Германии в начале 1920-х годов и достигшее расцвета к 1926–1927, было искусственно прервано в 1933 году нацистами, пришедшими к власти. В этой статье мне хотелось бы на конкретном историческом материале продемонстрировать, что все происходило не совсем так. Что новый стиль, называемый в Германии сначала «рационализмом», «стилем Баухауза» и «стилем нового строительства», а позже – «функционализмом» и «интернациональным стилем», начал сдавать творческие позиции еще до прихода нацистов к власти. Что негативное отношение к архитекторам-авангардистам превалировало в стране уже в конце 1920-х годов и было следствием тех настроений, которые и привели к воцарению Гитлера, а не наоборот. Хочется также подчеркнуть, что, превратив расправу над авангардом в один из главных политических спектаклей, Гитлер, тем не менее, позаимствовал у своих формальных врагов немало идей, исказив их на свой лад и адаптировав к собственным нуждам. В целях исторической справедливости хотелось бы также убедить читателей в том, что архитекторы-традиционалисты в годы республики активно боровшиеся с модернизмом и облегчившие Гитлеру захват власти, очень скоро оказались в новом государстве в роли оппозиционеров и поплатились за свои иллюзии едва ли не в большей степени, чем их противники-авангардисты. 1923–1927 Чтобы не углубляться в более отдаленную историю, мы начнем наш рассказ с того периода, который принято именовать эпохой «новой вещественности» (Neue Sachlichkeit). На смену экспрессионизму, пик развития которого в архитектуре пришелся на 1916–1922 годы, пришло новое время и новые лозунги. Мистическая экзальтация, преклонение перед индивидуальным творческим началом, стремление творить «воображаемую архитектуру» остались в прошлом. На смену им пришло стремление к рационализации во всех ее проявлениях. Таинственному и далекому предпочли зримый материальный мир, сложности и непредсказуемости – простоту, целесообразность и порядок, а капризным завихрениям живой природы – безукоризненно точный технический механизм и абстрактную геометрию. Мировоззренческие изменения шли рука об руку с лексическими. Противопоставляя новый, нарочито прагматический язык широко распространенным в эпоху экспрессионизма эмоциональным и велеречивым эскападам, архитекторы старались исключить из своего лексикона все «возвышенные» и качественно окрашенные понятия. Даже слово «дух», вначале активно использовавшееся рационалистами, все реже фигурировало в их статьях, воззваниях и речах. Та же участь постигла со временем и слово «искусство», так что вместо «искусства будущего» стали говорить о «домах будущего», «предметах будущего» и т.д. Своей главной целью немецкие архитекторы вслед за русскими конструктивистами и сторонниками производственного искусства, а также голландскими и французскими рационалистами провозгласили теперь «формирование самой жизни» (термин Вальтера Гропиуса). А символом новой архитектуры вместо столь популярных в эпоху экспрессионизма «соборов социализма» и хрустальных городов будущего стал самый обыкновенный жилой дом. Первый пример подобного дома, созданного в соответствии с новыми взглядами на жизнь и искусство, был представлен на выставке Баухауза в Веймаре в 1923 году и носил имя Дома ам Хорн. Это здание, авторами которого были студенты и преподаватели Баухауза во главе с Г. Мухе и А. Майером, демонстрировало принципиально новый подход к проектированию прежде всего потому, что в его основе лежали простейшие геометрические формы. В плане оно представляло собой систему из нескольких вписанных друг в друга квадратов. Что же касается внешнего облика, то здесь речь шла о целом ряде нововведений. Первое и главное из них – плоская крыша, ранее использовавшаяся в Германии почти исключительно в промышленном строительстве. А также ничем не украшенные оштукатуренные внешние стены, дверные и оконные проемы, лишенные какого-либо обрамления. Подчеркнуто лаконичный и строгий внешний облик в интерьерах компенсировался яркой окраской стен, полов и предметов мебели. 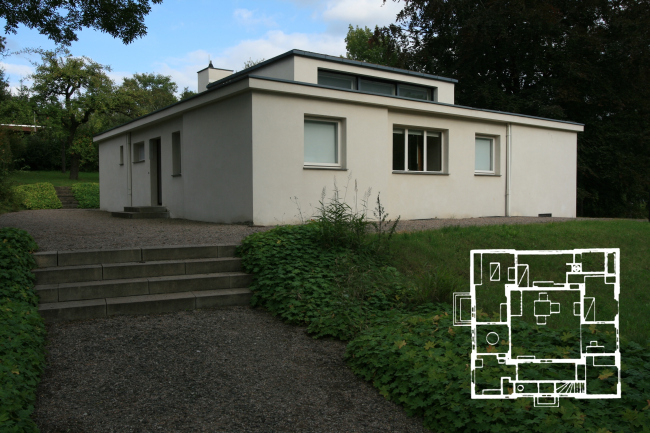 Георг Мухе, Адольф Майер. Дом ам Хорн. Веймар, 1923В дальнейшем стиль, базовые принципы которого демонстрировал Дом ам Хорн, часто именовали «стилем Баухауза», однако нельзя с полным правом утверждать, что он родился именно в стенах веймарской школы, основанной в 1919 году Вальтером Гропиусом. Ростки новой эстетики появились почти единовременно в разных концах Европы, а причины ее быстрого распространения и относительной однородности коренились, не в последнюю очередь, в сходстве политических установок ее создателей: практически все сторонники рационализации искусства в 1920-е годы придерживались левых взглядов и горячо поддерживали революционные перемены в России и Германии. После 1924 года, когда экономическая ситуация в Германии благодаря вступлению в силу плана Дауэса стала меняться к лучшему, немецкие рационалисты оказались в наиболее выигрышном положении по сравнению со своими коллегами и единомышленниками из других стран. Не в последнюю очередь благодаря сходству политических убеждений, творческие поиски немецкого художественного авангарда активно поддерживались социал-демократическими властями. А поскольку социал-демократы провозгласили одной из главных своих целей решение жилищной проблемы, архитекторы-рационалисты получили беспрецедентные возможности для реализации своих идей, в первую очередь, в области массового жилого строительства.  Бруно Таут. Поселок «Хижина дяди Тома». Берлин, 1926–1931Уже в начале 1920-х руководство проектированием новых кварталов Бруно Таут. Поселок и районов в целом ряде крупных немецких городов попало в руки приверженцев нового рационального стиля. Застройкой Берлина руководил Мартин Вагнер, привлекший к сотрудничеству одного из самых талантливых представителей младшего поколения немецких архитекторов, Бруно Таута; Франкфурт-на-Майне застраивался командой авторов под руководством Эрнста Мая; в Дессау, куда школа Баухауз переехала из Веймара, контроль над жилищным строительством перешел в руки Вальтера Гропиуса и т.д. В работах всех этих авторов новые принципы проектирования получили дальнейшее развитие, были подкреплены научными исследованиями и техническими разработками, но главное – огромным опытом практического применения. Общепринятым наименованием жилых построек, кварталов и районов нового, рационального типа стал термин «новое строительство». По воспоминаниям современников, в первой половине 1920-х годов это словосочетание не сходило с первых полос газет и было едва ли не главным предметом обсуждений и горячих споров. Даже женские журналы не обходили стороной этой модной темы, посвящая своих читательниц в тонкости организации нового быта или демонстрируя возможности его оформления. «Новое строительство» стало символом молодости, демократизации, тотального обновления всех сторон жизни. Надо сказать, что пристальный интерес молодых немецких проектировщиков к прозаической сфере жилого строительства объяснялся далеко не только характерным для периода «новой вещественности» стремлением «спуститься с небес на землю» и начать приносить практическую пользу рядовым жителям страны. Эта сфера издавна привлекала архитекторов возможностью подспудного эстетического и педагогического воздействия на жильцов, чей быт они оформляли и организовывали. Теперь, в годы республики, они вознамерились воздействовать не на одного человека, но на массы, структурировать и предопределять жизнь целого района, поселка, а еще лучше – города, страны, мира. При этом со стремлением к экспансии соседствовало желание предопределить и направить все самые частные частности частной жизни с тем, чтобы подготовить несовершенное настоящее к наступлению идеального будущего, тем самым, возможно, приблизив его. Скажем, Эрнст Май не ограничивался планированием новых районов Франкфурта, проектированием отдельных домов, созданием образцов мебели и текстиля и изобретением разнообразных технических устройств, долженствующих облегчить быт современных людей. Стремясь к полной эстетической и идеологической унификации всей художественной продукции на подведомственной ему территории, он выпускал подробнейшие предписания, касавшиеся шрифта и облика рекламы и даже разрабатывал современные стандарты оформления могил. Биографы Мая подчеркивают, что «протагонисты Нового Франкфурта выступали в роли строгих учителей, пытаясь внедрить новый стиль жизни любыми средствами и часто невзирая на сопротивление» [Barr H., May U. Das Neue Frankfurt: Spaziergange durch die Siedlungen Ernst Mays und die Architektur seiner Zeit. Frankfurt a. M.: B3 Verlag, 2007. S. 17.]. Не менее жестко поступал с потенциальными жильцами своих домов Вальтер Гропиус. В жилых домах поселка Тертен, выполненных по его проекту, за каждым помещением внутри дома закреплялась строго определенная функция, дополнительно фиксировавшаяся характером встроенной мебели, а в небольшом садике предписывалось выращивать заданный перечень плодовых кустов и деревьев.  Эрнст Май. Район Нидеррад. Дома «Зигзаг». Франкфурт-на- Майне, 1926–1927Столь жесткая регламентация в большой мере объяснялась режимом строжайшей экономии, ведь архитекторы стремились обеспечить жителям страны максимально большое количество квадратных метров жилья за максимально сжатые сроки, при этом минимизировав расходы на строительство. Они видели себя не только художниками в самом широком смысле этого слова, но одновременно экономистами, социологами и изобретателями-технологами. Однако жесткий диктат проектировщиков-рационалистов был следствием далеко не только практической необходимости. Помимо прочего, ими руководило стремление распространить «учение» о новом стиле и новом быте в максимально широких масштабах. Архитекторы-новаторы сознавали, что воспитанные в прежних условиях и на других идеалах жильцы будущих домов непременно попытаются «протащить» в идеальное будущее элементы несовершенного прошлого, и стремились их такой возможности лишить. Как пишет историк «Веркбунда» Винфрид Нердингер, «все были только рады, что необходимость расспрашивать жильцов на новом этапе отпала… Нравились ли подобные формы жилья потенциальным пользователям или нет, не играло уже ни малейшей роли, поскольку, согласно педагогическим идеалам “Веркбунда”, следовало “активно влиять на широкие массы трудящихся, воспитывать их и заставлять радикально менять свои бытовые привычки”» [Nerdinger W. Neues Bauen – Neues Wohnen // 100 Jahre Deutscher Werkbund 1907/2007 / Hrsg. W. Nerdinger, W. Durth. Munchen: Prestel Verlag, 2007. S. 143.]  Вальтер Гропиус. Район Тёртен. Дессау, 1927–1928Взяв на себя роль «учителей жизни», модернисты вольно или невольно противопоставляли себя остальному миру. А это, в свою очередь, требовало от них особой сплоченности и единомыслия. Не удивительно, что уже в 1924 году, почувствовав потребность в формальном объединении, по инициативе Людвига Миса ван дер Роэ и Хуго Херинга архитекторыавангардисты создали собственный союз – «Кольцо десяти». Поскольку к десяти основоположникам в скором времени выразили желание примкнуть и другие архитекторы, в 1926 году организация была переименована просто в «Кольцо». В том же принципиальном для немецкой архитектуры 1926 году началось строительство образцового поселка Вайсенхоф, справедливо считающегося высшей точкой в развитии архитектурного модернизма предвоенного периода. Поселок был возведен в пригороде Штутгарта международной командой архитекторов в рамках выставки «Современная квартира». Эта выставка была организована по инициативе «Немецкого Веркбунда» и прошла в 1927 году. Из немецких архитекторов в проектировании Вайсенхофа приняли участие Вальтер Гропиус, Ганс Шарун, Людвиг Хильберсаймер, Бруно и Макс Тауты, а из старшего поколения – Петер Беренс и Ганс Пельциг. Всего же на территории Вайсенхофа работало 17 архитекторов и 55 дизайнеров интерьера из пяти европейских стран. Генеральный план Вайсенхофа и общая художественная концепция принадлежали Мису ван дер Роэ. От остальных авторов требовали, чтобы каждый из них предложил в проекте нечто свое – оригинальное и новое. Новации могли касаться эстетических, эксплуатационных, технологических и экономических аспектов строительства. Так, два стоящие рядом дома, спроектированные Пьером Жаннере и Ле Корбюзье, призваны были проиллюстрировать эффектный тезис последнего, что «дом – это машина для жилья», и стать образцом жилого здания из железобетона. В основе их планировки и структуры лежали «пять принципов новой архитектуры», [Пять принципов новой архитектуры это: дома «на ножках», свободная планировка, свободная композиция фасада, регулярная сетка опор, ленточные окна, сад на крыше.] перечисленные Ле Корбюзье в брошюре, которая была опубликована к открытию выставки. Гропиус на примере двух своих построек стремился продемонстрировать новые способы монтажа и убедить современников в необходимости собирать в заводских условиях целые дома. Мис ван дер Роэ в своем трехэтажном многоквартирном доме пытался добиться полной мобильности и универсальности жилого пространства посредством использования передвижных перегородок.  Ле Корбюзье, Пьер Жаннере. Образцовые дома в районе Вайсенхоф. Штуттгарт, 1927 Людвиг Мис ван дер Роэ. Многоквартирный дом в районе Вайсенхоф. Штутгарт, 1927Поскольку жилое здание рационалисты стремились уподобить производственному комплексу, все процессы внутри которого выверены и оптимизированы, в большинстве квартир кухня представала аналогом «главного цеха» (не случайно многие ее элементы теперь изготавливались из металла) и становилась важнейшим идеологическим и стилеобразующим центром «машины для жилья». Впрочем, некоторые авторы жилых домов Вайсенхофа пошли еще дальше, исключив кухню из перечня необходимых помещений. Скажем, Гропиус полагал, что бoльшая часть европейцев в недалеком будущем переедет жить в многоэтажные гостиницы с разветвленным общественно-коммунальным центром. Людвиг Хильберсаймер, провозгласил, что квартиру следует рассматривать как простой «предмет потребления» (Gebrauchsgegenstand): не только «буржуазная» гордость за жилище должна остаться в прошлом, но и от отношения к нему как к частному, приватному пространству следует отказаться: в новом справедливом и гармоничном обществе исчезнет потребность в уединении. В связи с этим Хильберсаймер предлагал редуцировать современную квартиру до минимального спального пространства и ванной комнаты. Мы так подробно останавливаемся на постройках Вайсенхофа, поскольку этот поселок с самого начала задумывался и позиционировался его авторами-рационалистами как образцовый. Именно этому международному проекту был обязан своим рождением термин «интернациональная архитектура». Идея о созыве международного конгресса современных архитекторов (CIAM) посетила молодых архитекторов также именно здесь. Вскоре после торжественного открытия Вайсенхофа архитектор и художественный критик Вальтер Курт Берендт, также участвовавший в подготовке Штутгартской выставки, издал брошюру «Победа нового архитектурного стиля», в которой воспел завоевания «нового строительства» и провозгласил полное торжество новой архитектуры делом свершившимся. Между тем даже беглый обзор проектов, воплощенных в Вайсенхофе, свидетельствует о том, что идеи архитекторов-рационалистов имели немало изъянов, недочетов и уязвимых мест. Прежде всего бросается в глаза, что создатели Вайсенхофа, как и в целом авторы «нового строительства», не столько отвечали своей архитектурой на актуальные запросы современности, сколько стремились с ее помощью предвидеть, предсказать и направить грядущие перемены. Иногда их догадки были на диво прозорливыми, но нередко архитекторы попадали впросак. Именно потому, что к концу 1920-х годов к авторам нового строительства накопилось немало претензий и вопросов, высказанная столь громогласно и категорично идея об окончательной и бесповоротной победе нового стиля вызвала бурю протеста и спровоцировала раскол в архитектурном сообществе. 1927–1929 Характерно, что единственным универсальным требованием, выдвигаемым организаторами строительства Вайсенхофа к авторам проектов, была плоская крыша. Эта, казалось бы, малозначительная деталь в реальности определяла очень многое, поскольку наличие плоской крыши к середине 1920-х годов стало по умолчанию означать приверженность проектировщиков принципам нового стиля. В свою очередь новый стиль понимался его создателями (равно как и их оппонентами) не как сугубо художественное явление, но как оболочка и одновременно структурирующая основа новой жизни, нового мировоззрения и мироощущения. Известный историк архитектуры Юлиус Позенер, в 1923–1929 годах обучавшийся на архитектурном факультете берлинской Высшей технической школы, вспоминал, что в представлении его соучеников существовала однозначная зависимость: «Кто рисует плоскую крышу, принадлежит к совершенно определенной группе – он против традиционных ценностей». [Цит по: Die Zwanziger Jahre des Deutschen Werkbunds. Berlin: Gie.en, 1982. S. 65.] Подобная категоричность в выводах стала следствием постепенной, но неуклонной смены настроений, происходившей в немецком обществе в середине 1920-х. Идеи, приведшие к созданию республики в 1919 году, к этому времени утратили свою привлекательность для большинства жителей страны. В течение всех послевоенных лет выборы носили почти исключительно протестный характер и потому редко приводили к позитивным сдвигам, что имело следствием глобальное разочарование граждан молодой республики в возможностях демократии. «Разобщенность народа, все более резко обозначающиеся политические и мировоззренческие противоречия, беспримерная ненависть, развращающие последствия войны – все это... наносит вред величию идеи правового государства» [Манн Т. Письмо неизвестному от 12.01.1929 // Манн Т. О немцах и евреях: статьи, речи, письма, дневники / Сост.: Л. Дымерская-Цигельман, Е. Фрадкина. Иерусалим: Библиотека Алия, 1990. С. 118.], – констатирует в конце 1920-х Томас Манн. Экономическое преуспеяние, позволившее немцам выбраться из нищеты к середине 1920-х, также имело далеко не только положительные последствия. На смену самобичеванию и поискам духовных ориентиров теперь пришел открытый, нарочитый меркантилизм. Один из героев Гауптмана, доживающий свой век при Веймарской республике, сетует: «Раньше философы говорили о блаженстве и счастье, а теперь только о готовых товарах, полуфабрикатах и сырье» [Гауптман Г. Перед заходом солнца // Гауптман Г. Пьесы. В 2 т. Т. 2. М.: Искусство, 1959. С. 414.]. Еще более тревожным выглядит взгляд на вещи, высказанный Томасом Манном: «Фантастическое развитие техники с ее триумфами и катастрофами, шум и сенсация вокруг спортивных рекордов, непомерно высокая оценка и несообразно большое число завораживающих массы звезд, боксерских чемпионатов с миллионными гонорарами, которые разыгрываются перед колоссальным числом зрителей, – это и подобное определяет картину времени так же, как и исчезновение укрепляющих благонравие строгих понятий, таких как культура, дух, искусство, идея» [Манн Т. Немецкая речь. Призыв к разуму // Манн Т. О немцах и евреях. С. 125.]. Нельзя не признать, что радикально настроенные деятели искусств внесли свою лепту в создание и распространение своеобразной «моды» на показную «бездуховность», нравственную распущенность и цинизм. Как свидетельствует Ханна Арендт: «Литературная и интеллектуальная среда Германии двадцатых годов внушала такое искушение расправиться с напыщенностью, которому трудно было противостоять» [Арендт Х. Люди в темные времена. М.: Московская школа политических исследований, 2003. С. 255.]. Молодые литераторы, художники и деятели театра тщились совершить революцию не только в политике, но и в умах. Они хотели видеть мир обновленным, очищенным от ханжеской морали и традиционных условностей, а потому жестоко высмеивали и дразнили в своих речах и произведениях поборников традиционного уклада, детей «сентиментальной» довоенной эпохи. Им казалось, что таким образом они борются с косностью, пошлостью, инерцией и изживают «буржуазность», ненависть к которой в кругах авангардистов достигла в эти годы своего апогея. «Интеллектуал прищуривает глаза от удовольствия, глядя на то, как буржуазия – а также буржуазность в людях – мучается» [Милош Ч. Порабощенный разум. СПб.: Алетейя, 2003. С. 61.], – писал Чеслав Милош об этой эпохе. Власти Веймарской республики наделили художников и интеллектуалов возможностью «мучить буржуазию», предоставив многим из них руководящие посты в культурной сфере. А поскольку представители немецкого авангарда почти повально увлекались левыми идеями, в то время как почтенные бюргеры, которых они дразнили, бичевали и высмеивали, симпатизировали правым партиям, то политическая борьба в Германии со временем приобрела характер противостояния творческой элиты и обывателей. Нарастающая ненависть рядовых жителей страны ко всему новому и чужеродному имела своим следствием четкое разделение сфер политического влияния. Социал-демократы пользовались популярностью в Берлине и других крупных промышленных центрах, поэтому именно здесь осуществлялись самые радикальные эксперименты в театре, кино, музыке, изобразительном искусстве и строительстве. Зато в небольших провинциальных городах, где превалировали традиционные вкусы и представления о морали, авторитетом обладали правые консерваторы и националисты. К середине 1920-х годов провинция повела атаку на большие города, в результате чего обнаружилось, что и среди жителей мегаполисов в последние годы заметно выросло число поборников традиции. Даже в кругах, изначально приветствовавших революцию, демократическая власть в ее нынешнем состоянии встречала все меньше сочувствия, а на место стремления к свободе и коллективизму пришла «смутная мечта о лидере, который, будучи порождением коллектива, укажет цель и поведет за собой» [Гумбрехт Х.У. В 1926 году: на острие времени. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 339.]. После смерти Фридриха Эберта в 1925 году президентом Германии был избран фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, который публично опроверг прописанную в Версальском договоре вину Германии в развязывании войны и призвал немцев консолидироваться вокруг национальной идеи. Национальная история, национальные традиции и национальные победы снова были подняты на щит. На этом фоне реваншистские идеи стали стремительно набирать силу. А поскольку после войны многие этнические немцы оказались за пределами новых государственных границ, речь шла уже не столько о победе Германии как государства, сколько о победе немцев, то есть набиравший силу национализм начал приобретать отчетливо этническую окраску. «Носителями и творцами этого национализма, усилиями которых он был сформирован, выступал целый ряд выдающихся писателей, среди которых... следует назвать Освальда Шпенглера, Артура Меллера ван ден Брука, Эдгара Юнга, Макса Гильдеберта Бема, Франца Шаувекера. Большинство из них принадлежали к более молодому поколению, прошли через увлечение философией Ницше и открыли для себя эстетическую прелесть агрессивного политического языка» [Данн О. Нации и национализм в Германии. 1770–1990. СПб.: Наука, 2003. С. 272.]. Надо сказать, что агрессивным политическим языком широко пользовались в эти годы не только правые и левые политики, но и деятели искусства, поскольку в Германии конца 1920-х – начала 1930-х годов вышел на новый уровень тот процесс, о котором Томас Манн писал как о политизации духовной жизни [См.: Манн Т. Культура и политика // Манн Т. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 10. М.: Гос. изд. художественной литературы, 1961. С. 288.]. Политическая борьба все в большей степени транслировалась в художественную и интеллектуальную область и принимала вид глобального противостояния двух культур – модернистской (левой) и традиционалистской (правой). Чуть позже, уже в 1930-е годы, Вальтер Беньямин напишет, что на эстетизацию «политики, которую проводит нацизм», коммунизм отвечает «политизацией искусства» [Беньямин В. Произведение в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Озарения. М.: Мартис, 2000. С. 152.]. Еще раз подчеркнем, что практически все молодые архитекторы-рационалисты, теоретики и практики нового интернационального художественного стиля симпатизировали левым партиям или даже входили в них. Понятно, что в годы обострения идеологической борьбы все, кто стоял «правее», стали видеть в них врагов традиционного порядка. Интернационализм авангардистов также встречал все меньше сочувствия в годы стремительной активизации националистических настроений. А если добавить к этому раздражение, которое вызывали у обывателей стиль поведения радикальных художников и результаты их творчества, мы поймем, почему во второй половине 1920-х годов вокруг «нового строительства» развернулась ожесточенная борьба. Как явствует из переписки людей, причастных к созданию Вайсенхофа, потребовались огромные усилия, чтобы выстроить его в том виде, в каком он изначально задумывался. Как только поселок был построен, газеты наполнились фельетонами, авторы которых именовали Вайсенхоф «арабской деревней в германском городе», «новым пригородом Иерусалима» и т.д. Рядовые посетители (а в поселке за время выставки побывало около 500 000 человек) тоже в большинстве своем «воспринимала постройки с большим скепсисом» [Briefe zur Wei.enhofsiedlung / Hrsg. K. Kirsch. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1997. S. 9.]. Историк Карин Кирш приводит текст открытки, отправленной одним из посетителей Вайсенхофа друзьям: «Сегодня во второй половине дня я посетил выставку. Критика тут неуместна – я просто ничего не понял. Оказывается, это не бараки, а дома будущего! Об интерьерах и говорить нечего. На подобном фоне я возношу хвалу старому доброму домашнему уюту!» [Ibid.] Когда пришло время продавать и сдавать внаем дома и квартиры Вайсенхофа, выяснилось, что в них почти никто не хочет въезжать. Образцовый дом Ле Корбюзье был арендован не семьей рабочих, как рассчитывал автор, а молодым художником, да и то за полцены. В другие дома многие жильцы вселялись лишь при условии, что встроенная мебель и новое оборудование будут выломаны, а интерьеры переделаны на привычный лад. Едва ли не самое уязвимое место функционализма состояло в том, что его создатели творили свое искусство именем народных масс, которым новый стиль оказался чужд. В годы республики, когда немецкая архитектура совершила в своем развитии стремительный рывок, став полноправной частью европейского авангарда, она разделила не только его успехи, но и его огорчения: неприятие со стороны рядового населения стало и ее уделом. Раскрепощенная новыми политическими условиями, «привыкшая во всем господствовать масса почувствовала себя оскорбленной этим новым искусством в своих человеческих “правах”, ибо это искусство привилегированных, искусство утонченной нервной организации, искусство аристократического инстинкта. Повсюду, где появляются музы, масса преследует их» [Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Запах культуры. М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. С. 128.]. В свою очередь неприятие новой архитектуры народом стало козырным тузом в руках ее противников, первую скрипку среди которых играли поборники так называемого стиля защиты родины. Этот термин, объединявший сразу несколько стилистических направлений традиционного толка, возник по аналогии с названием организации «Немецкий союз защиты родины», некогда созданной архитектором и художественным критиком Паулем Шульце-Наумбургом. На новом этапе Шульце-Наумбург также не остался в стороне от дел. В 1927 году после строительства Вайсенхофа он возглавил демарш архитекторов-традиционалистов, демонстративно покинувших ряды «полевевшего» «Веркбунда». А в 1928 году инициировал создание группы «Блок», альтернативной «Кольцу». Стоит оговориться, что хотя тон в новом объединении задавали непримиримые противники авангарда, вроде самого Шульце-Наумбурга, основную массу его членов составляли куда более нейтральные по своим взглядам архитекторы. Многими из них двигала вовсе не ненависть к современному искусству, а стремление встать на защиту обыденного здравого смысла и культурных традиций. В том, что эти люди пошли на объединение с оголтелыми националистами, были отчасти повинны сами модернисты. Их агрессивная и категоричная риторика все больше отталкивала тех, кто не готов был выбросить историческое прошлое и национальную культуру «с корабля современности». При этом надо помнить, что даже на пике своего успеха «„новое строительство” количественно составляло лишь малую часть того, что в период между концом Первой мировой войны и началом эры национал-социализма возводилось на территории Германии» [Petsch J., Schaeche W. Architektur im deutschen Faschismus: Grundzuge und Charakter der nationalsozialistischen «Baukunst» // Realismus. 1919–1939. Munchen: Prestel-Verlag, 1981. S. 396.]. Почти все немецкие проектировщики в той или иной степени прошли через увлечение различными модификациями модернизма. В их постройки и проекты проникали отдельные элементы экспрессионизма, функционализма или модного в соседней Франции ар деко. Менялся масштаб построек, их функциональные особенности, менялись специфика и количество декора. Однако глубинное отношение большинства проектировщиков к тому, что есть архитектура, из каких первичных элементов она состоит и каким целям служит, оставалось у большинства проектировщиков вполне традиционным. Пересматривать его они не спешили или вовсе не считали нужным.  Вильгельм Крайз. Выставочный комплекс Гезоляй в Дюссельдорфе. 1925–1926Скажем, большой популярностью в годы Веймарской республики продолжал пользоваться неоклассицизм – тот самый, которому в довоенном прошлом принадлежали лавры ведущего художественного направления, а в недалеком будущем предстояло стать «официальным стилем» Третьего рейха. Одним из наиболее преданных приверженцев этого направления оставался представитель старшего поколения немецких архитекторов Вильгельм Крайз. В числе прочего в 1925–1926 годах он построил в Дюссельдорфе огромный выставочный комплекс «Гезоляй», архитектура которого во многом предвосхищала постройки Третьего рейха. Большие, симметричные, жестко расчерченные рекреационные пространства, с клумбами и фонтанами посередине, казалось, были созданы для народных гуляний и праздников, столь популярных в эпоху Третьего рейха. Лаконичные здания из красного кирпича и бетона, окружавшие все это великолепие, представляли собой радикально осовремененную и достаточно брутальную версию ордерной архитектуры, предвосхищавшую более поздние имперские постройки.  Пауль Бонатц, Фридрих Шолер. Центральный вокзал в Штутгарте 1914–1928В 1928 году в Штутгарте закончилось строительство Центрального вокзала по проекту ведущих представителей так называемой штутгартской архитектурной школы, П. Бонатца и Ф. Шолера. От неоклассического облика этого здания еще в большей степени, чем от дюссельдорфской выставки, веет тоталитарным холодом и какой-то военной выправкой. Все элементы фасадов – многократно повторяющиеся квадратные в плане колонны-столбы, ниши, двери, маленькие окна, – как солдаты перед походом, выстроены по ранжиру в строгом порядке. В штутгартском вокзале с его мрачной монументальностью и подчеркнутой лапидарностью в прорисовке традиционных форм тоже нетрудно разглядеть прообраз будущих гитлеровских построек. Другой поклонник отечественных традиций Герман Бестельмайер в полном соответствии с мюнхенскими традициями примерно в те же годы создал свой, более традиционный вариант «современного классицизма». Новые корпуса Технического университета, строившиеся по его проекту с 1928 по 1931 год, почти буквально воспроизводят в своей архитектуре элементы построек немецкого классицизма рубежа XVIII–XIX веков. Правда, в соответствии с новыми веяниями, многие детали куда более грубо и просто нарисованы, а размеры зданий соответствуют современным представлениям о городском масштабе. Есть здесь и элемент, который позднее охотно использовали архитекторы Третьего рейха: каменные «рамки» на окнах – простейший вариант наличника.  Герман Бестельмайер. Новое здание Высшей Технической школы в Мюнхене. 1922–1926Мы привели здесь лишь некоторые примеры из множества неоклассических построек, возводившихся в конце 1920-х годов на всей территории Германии и встречавших полное одобрение широкой публики. В этот период число сторонников различных модификаций «национальной» архитектуры и, соответственно, врагов нового строительства росло в геометрической прогрессии, а их действия по борьбе с новым стилем и его адептами носили все более организованный и агрессивный характер. Поначалу среди тех, кто однозначно осуждал новые архитектурные поиски, были представители различных строительных и ремесленных специальностей, которых любители плоских крыш оставили без работы. Еще через некоторое время к ним добавились жильцы, на собственном опыте убедившиеся в наличии у новых построек заметных инженерно-технических огрехов. И все же главный удельный вес среди борцов с «новым строительством» приходился на тех, кто порицал его эстетические качества. К концу 1920-х годов сторонники новой архитектуры вынуждены были обороняться от нападок сразу по нескольким, иногда взаимоисключающим направлениям. Поборники традиционных форм упрекали их произведения в «антихудожественности». Одновременно функционалистам инкриминировались технологические нелепости, явившиеся следствием эстетического формализма. Правые подозревали их в служении коммунистам, осуществляющим при помощи нового строительства политику «пролетаризации» немецкого народа. А некоторые коммунисты, напротив, утверждали, что молодые архитекторы «продались» капиталистам – производителям бетона и стекла. Поборники «нового строительства» защищались, как могли. В 1926 году в газете «Филин» под заголовком «Кто прав?» была опубликована полемика Гропиуса и Шульце-Наумбурга. Гропиус настаивал, что технический прогресс последних десятилетий ставит мир перед необходимостью глобального пересмотра всех параметров жизни, и требовал решительного отказа от «вялого и умирающего эпигонства декоративной архитектуры» [Цит. по: Borrmann N. Schultze-Naumburg. Maler. Publizist. Architekt. Vom Kulturreformer der Jahrhundertwende zum Kulturpolitiker im Dritten Reich. Essen: Bacht, 1989. S. 142.]. Идеалом будущего он провозглашал «складированные про запас, полностью готовые дома», которые можно будет в любую минуту извлечь со склада, «подобно ботинку» [Ibid.]. Шульце-Наумбург отстаивал позицию, что как бы далеко ни ушел прогресс, человек в своих физиологических проявлениях остается неизменен, а потому принципы организации и оформления жилища также не нуждаются в глобальном пересмотре. Продолжением этого спора стала дискуссия о форме крыши, развернувшаяся на страницах газет «Новый Франкфурт», «Форма», «Строительный мир» («Bauwelt»), «Немецкая строительная газета» («Deutsche Bauzeitung»). В защиту плоских крыш высказались не только немецкие архитекторы-рационалисты и симпатизирующие им критики, но и иностранцы, в числе которых были такие авторитеты, как голландец Ауд и американец Райт. Однако явный количественный, да и моральный перевес остался все же на стороне противников этого нововведения. В частности, среди них оказались самые авторитетные представители старшего поколения немецких архитекторов. Так Генрих Тессенов писал на страницах газеты «Новый Франкфурт»: «Не будем возвращаться к тому, что наша крыша в первую очередь должна защищать нас от дождя и снега, а для этого скатная крыша имеет наиболее подходящую исходную форму, в то время как все плоские крыши – и по этому поводу даже не стоит пускаться в философствования – содержат в себе некую изначальную ошибку» [Tessenov H. Das Dach // Die zwanziger Jahre des Deutschen Werkbundes. S. 85.]. Тессенов утверждал, что для рационалистов плоская крыша стала прежде всего символом новых веяний. Ту же мысль повторял и другой мэтр, Герман Мутезиус: «Новая форма действует на своих создателей столь тиранически, что все остальные мотивы – и прежде всего настойчиво декларируемая рациональность, оказываются совершенно подчинены, размолоты ею. Новая форма порождает плоскую крышу. Новая форма ведет к немыслимому превышению норм освещенности в жилых помещениях, поскольку требует создания ленточных окон, опоясывающих здания по периметру. Новая форма заставляет архитекторов отдавать внешние стены на милость погодным условиям и суровому климату, от которого раньше их защищала крыша. Все эти особенности ничего общего не имеют ни с экономичностью, ни с конструктивной обусловленностью. Речь идет исключительно о проблеме формы» [Ibid.], – заключал Мутезиус. Еще два талантливейших представителя старшего поколения, Ганс Пёльциг и Петер Беренс, до определенного времени тесно сотрудничавшие с представителями младшего поколения и даже принявшие участие в проектировании Вайсенхофа, также в конце 1920-х подвергли резкой критике деятельность своих прежних соавторов и учеников. Пёльциг в 1929 году вышел из «Кольца», стал членом «Блока» и начал выступать с жесткой критикой в адрес модернистов. «Новая вещественность таит в себе столько же фальшивой романтики и в конечном итоге беспредметности, сколько обычно бывает в периоды, когда люди дают себя одурманить лозунгам» [Poelzig H. Der Architekt // Trotzdem modern. Die wichtigste Texte zur Architektur in Deutschland. 1919–1933. Wiesbaden: Bauwelt-Fundamente, 1994. S. 242.], – писал он. В свою очередь другой кумир молодежи, учитель Гропиуса, Миса ван дер Роэ и Ле Корбюзье, Петер Беренс в 1932 году заявил, что излишнее поклонение цифрам и технике привело не только к выхолащиванию искусства, но и к полной моральной деградации общества. Люди утратили этическую и эстетическую ответственность, слишком положившись на объективные обстоятельства. «Борьба, в которой мы живем и которая, начавшись вместе с войной, сегодня приняла новые формы, это не спор вокруг земельных вопросов или прав нации. Это борьба мировоззрений... Чем больше рационализация будет наступать на нас, тем сильнее станет встречное движение» [Behrens P. Zeitloses und Zeitbewegtes // Ibid. S. 260–261.], – предрек Петер Беренс. Беспрецедентный радикализм модернистов, их стремление ориентироваться на будущее, пренебрегая настоящим и прошлым, их неготовность к компромиссам и диалогу, имели своим следствием нараставшее отчуждение между ними и остальной частью немецкого общества. В свою очередь страх прослыть романтиками, заставлявший модернистов изъясняться подчеркнуто сухим, наукообразным языком и мотивировать свою деятельность исключительно практической необходимостью, дал повод и право упрекать их в отсутствии духовных и нравственных идеалов. Еще раз подчеркнем, что в большинстве своем критики нового строительства вовсе не ставили своей целью полного его уничтожения. Упрекая младших коллег в излишней преданности отвлеченным идеям, формализме и максимализме, Беренс, Пёльциг, Тессенов, Шумахер и другие представители старшего поколения надеялись лишь несколько охладить их воинственный пыл и вернуть архитектуру в более разумное, традиционное русло. Совсем иначе обстояло дело с Паулем Шульце-Наумбургом, который во второй половине 1920-х годов принял на себя роль главного защитника патриархальных нравов и борца с авангардом во всех его проявлениях. Разбору особенностей и сопоставлению традиционного и современного жилья были посвящены его книги «Алфавит строительства» («ABC des Bauens», 1926), «Бюргерский дом» («Das burgerliche Haus», 1926), «Плоская или скатная крыша» («Flaches oder geneigtes Dach», 1927), «Лицо немецкого дома» «(Das Gesicht des deutschen Hauses», 1929). По многим пунктам позиция Шульце-Наумбурга совпадала с точкой зрения других архитекторов традиционного крыла и содержала в себе немало справедливого. Однако это ни в коей мере не отменяет того факта, что благодаря этому человеку эстетический спор начал приобретать выраженно политический характер. Экстраполировав идеи «радикального национализма» на сферу искусства, Шульце-Наумбург едва ли не первым начал именовать авангардистов «культурбольшевиками» и «безродными космополитами», а также вменять им в вину сознательное желание «механизировать» и «пролетаризировать » немецкое общество. В 1927 году Шульце-Наумбург опубликовал книгу «Искусство и раса», где настаивал, что особенности любого художественного произведения обусловлены расовой принадлежностью его автора. Шульце-Наумбург и подобные ему ярые противники модернизма вроде автора книги «Кризис архитектуры» швейцарского архитектора Александра фон Зенгера уже к концу 1920-х годов выработали систему альтернативных лозунгов и специфический язык, при помощи которых надеялись противостоять модернистской агитации. Важной особенностью этого языка стало то, что он сформировался «по остаточному принципу», то есть центральными и смыслообразующими в нем оказались как раз те категории и термины, от которых решительно и осознанно отказались рационалисты. Поскольку нарочито категоричные, хлесткие и часто недоступные пониманию обывателей лозунги авангардистов встречали мало сочувствия у граждан страны, сторонники Наумбурга получили дополнительные шансы на успех, апеллируя к привычным, освященным традицией понятиям. Принципиальная разница в подходе прочитывалась уже в названиях враждующих направлений: нарочито нейтральному термину «новое строительство» (Neues Bauen) Шульце-Наумбург и его сторонники противопоставляли «новое немецкое строительное искусство» (Neue deutsche Baukunst). Благодаря усилиям Шульце-Наумбурга и возглавляемой им группы архитекторов, в художественной критике и сознании современников начал происходить процесс сращения терминологии, которой пользовались поборники традиционализма, с идеологией нацистов. Из-за этого очень многие сторонники традиции, среди которых были и почти все крупные архитекторы старшего поколения, оказались невольно втянутыми в политическую борьбу. А едва ли не все общепринятые искусствоведческие термины, при помощи которых издавна описывались художественные качества произведений, их духовная насыщенность или степень одаренности их создателей, уже в начале 1930-х годов превратились в «неотъемлемую собственность» не только поборников традиционного искусства, но и их политических патронов. Пройдет еще несколько лет, и Вальтер Беньямин заявит о необходимости вводить в искусствоведческий обиход новые термины вместо ряда «устаревших понятий, таких как творчество и гениальность, вечная ценность и таинство, неконтролируемое использование которых (а в настоящее время контроль осуществим с трудом) ведет к интерпретации фактов в нацистском духе» [Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. С. 123.]. В свою очередь язык модернистов и их лозунги ассоциировались к концу 1920 – началу 1930-х годов уже не просто с «левыми», но с крайними «левыми» движениями и политическими партиями. Отчасти в этом были повинны наветы их противников. Но не меньшую роль играло и то, что, разочаровавшись в способностях народа к восприятию новейших художественных идей, авангардисты стали проявлять еще больше нетерпимости и авторитаризма. Встретив дружное сопротивление, многие из них пришли к выводу, что новое искусство следует насаждать силой. Бруно Таут, например, заявил, что в создавшихся условиях «художники должны принудить людей к счастью» [J. Posener. BrunoTaut. Eine Rede zu seinem funfzigsten Todestag. Berlin: Akademie der Kunste, 1989. S. 31.]. В результате к началу 1930-х годов ярлык «культурбольшевиков», посягающих на свободу и личное мнение рядовых граждан Германии, «приклеивался» к модернистам все основательнее, архитектурное сообщество все больше поляризовывалось, и колеблющиеся, хотели они того или нет, вынуждены были примыкать к одной из противоборствующих сторон. После начала экономического кризиса в 1929 году противостояние приобрело еще более острые и политизированные формы. 1929–1933 Экономический кризис, последовавший за биржевым крахом 1929 года, как известно, ударил не только по Америке, но и по всей Европе, посеял панику и способствовал распространению профашистских настроений в самых широких масштабах. В Германии, оказавшейся в результате кризиса в самом плачевном состоянии, эти настроения достигли наибольшей остроты. Все завоевания республики оказались поставленными под сомнения, а застарелая обида немцев на условия Версальского договора переродилась в настоящую ненависть к остальному миру и предателям социал-демократам, некогда этот договор подписавшим. Дополнительным поводом для обиды и еще большей международной изоляции послужил тот факт, что Америка, на субсидиях и кредитах которой зиждилось преуспеяние Германии в годы республики, не только отозвала из страны все свои средства, но и потребовала возвращения долгов. В 1930 году число безработных немцев выросло до четырех миллионов, в 1931 – до пяти. Одновременно с экономическим кризисом страну сотрясали политические разногласия. Экстремизм как левый, так и правый приобрел в эти годы небывалый размах. «Левые» увидели в экономическом кризисе подтверждение пророчеств марксистов о крахе капиталистической системы и усилили агитацию за скорейшее осуществление революции. «Правые», со своей стороны, запугивали народ коммунистической угрозой. С каждым днем росло число различных военизированных формирований, готовых пустить в ход оружие. На фоне роста националистических настроений в стране Гитлер решился пожертвовать «социализмом» в пользу «национализма», объявив, что нацизм не является классовой партией, а стремится к объединению всей нации и созданию давно чаемого национального сообщества (Volksgemeinschaft), лишенного классовых антагонизмов. Теперь основным объектом его агитации стала деревенская и городская буржуазия, в результате чего среди сторонников нацистской партии оказалась и огромная часть образованных немцев. Не случайно об опасности заражения нацизмом в среде интеллектуалов предупреждал в выступлении «Немецкая речь. Призыв к разуму» Томас Манн. Не только представители академических кругов, историки и филологи германисты, более всех инфицированные национальной идеей, но и очень многие архитекторы, в особенности старшего поколения, подпали в конце 1920 – начале 1930-х годов под «обаяние» идей национал-социализма. Перед выборами 1932 года 52 преподавателя высших школ обратились к соотечественникам с воззванием: «Немецкий духовный мир – национал-социализму». Под воззванием поставили свои подписи в том числе многие члены группы «Блок». Одним из главных помощников фюрера в деле сотрудничества с культурным сообществом был в этот период небезызвестный Альфред Розенберг, некогда учившийся на архитектора в Риге и Москве, увлекавшийся историей искусства и философией. Уже в 1923 году Розенберг стал главным редактором основного печатного органа нацистов, газеты «Народный наблюдатель» («Volkischer Beobachter»). Еще через несколько лет Гитлер поручил ему создать и возглавить новый орган, ориентированный на пропаганду идей национал-социализма в кругах интеллектуалов и деятелей искусства. В феврале 1929 года было официально объявлено о появлении «Союза борьбы за немецкую культуру» («Kampfbund fur deutsche Kultur»), или кратко, «Кампфбунда». «В условиях сегодняшнего культурного упадка наш Союз ставит перед собой цель выявления и разъяснения народу взаимосвязей между вопросами расы, искусства, науки и традиционных ценностей» [Цит. по: Miller Lane B. Architektur und Politik in Deutschland 1918–1945. Braunschweig: Vieweg+Teubner Verlag, 1986. S. 142. ], – разъяснял Розенберг. В конце 1920-х – начале 1930-х годов в разных городах страны в массовом порядке возникали общества, борющиеся с авангардным искусством и пропагандирующие традиционные ценности. Однако ни одна из них не могла сравниться по влиянию и размерам с «Кампфбундом». Членами «Кампфбунда» становились многие публичные деятели и знаменитости, его силами организовывались выставки, концерты, спектакли, издавались газеты и журналы. Мюнхенский критик и искусствовед Ганс Экштайн вспоминал после войны: «Если бы вы сегодня ознакомились со списками членов “Кампфбунда”, вы бы поразились, какое количество художников, ремесленников, архитекторов, директоров музеев входило в него! Многие из этих людей не были никак связаны с политикой, но поддались общему психозу» [Interview mit Hans Eckstein in Lochheim bei Munchen am 28.09.1978 // Die Zwanziger Jahre des Deutschen Werkbundes… S. 172.]. Одновременно с агитацией и поощрением «идейно близких» «Кампфбунд» был призван вести активную работу по разоблачению идеологических врагов национал-социализма. Главными объектами его нападок становились художники-модернисты, «предавшие национальную идею и способствующие развращению нации», коммунисты, пацифисты и, разумеется, евреи, ненависть к которым нагнеталась всеми возможными способами. Надо сказать, что отвращение Гитлера к изобразительному искусству авангарда возникло еще в ту пору, когда будущий фюрер тщетно пытался поступить в Венскую академию художеств, то есть задолго до того, как он занялся политикой. Но за развитием архитектуры модернизма, как свидетельствует историк Барбара Миллер-Лане [См. подробнее: Miller Lane B. Architektur und Politik in Deutschland 1918–1945. S. 145–147.], Гитлер до определенного момента следил с благожелательным вниманием. В газете «Народный наблюдатель» в 1927 году был помещен положительный отзыв на новые жилые районы, выстроенные Гропиусом, Майем и Вагнером. В 1929 году в той же газете прозвучала похвала в адрес градостроительных идей Ле Корбюзье, которого Шульце-Наумбург в те же самые годы именовал отщепенцем и культур-большевиком. Хотя отнюдь не все идеи рационалистов встречали понимание со стороны Гитлера, ему импонировал их социальный пафос, ориентация на утопический урбанизм и стремление к радикальным переменам. Правда, в 1926 году Гитлер сетовал, что «сегодняшние произведения рассчитаны не на вечность, а на удовлетворение сиюминутных потребностей. Какие-либо высокие соображения у проектировщиков вообще отсутствуют» [Цит.по: Architektur im Dritten Reich. 1933–1945 / Hrsg. А. Teut. Berlin: Ullstein, 1967. S. 182.], но это были едва ли не единственные претензии, высказанные им в адрес нового строительства до 1930 года. Отношение Гитлера к архитектурному авангарду стало меняться лишь в конце 1920-х, когда одним из его ближайших соратников стал давний друг Шульце-Наумбурга, специалист по сельскому хозяйству Рихард Вальтер Даре. Он был одним из главных адептов принципа «крови и почвы» (Blut und Boden), а также создателем теории о «поселенцах и кочевниках» (Siedlern und Nomaden), которой суждено было довольно заметно изменить взгляды Гитлера и его окружения на вопросы расселения и строительства. Согласно нехитрой теории Даре, все население Европы делится на две вышеуказанные категории. Из «поселенцев» вышли европейские воины, аристократы и все представители нордической расы. Для этого типа людей свято понятие собственности, семьи и чести. Они – носители «настоящего крестьянского образа мысли», породившего немецкий идеализм и натурфилософию. Мистика, «идущая из земли», окрашивает их сознание, пропитывает создаваемое ими искусство и, кроме того, им свойственна вера в особую роль личности. «Кочевники» представляют собой полную противоположность «поселенцам». К этой категории относятся выходцы из Индии, восточно-азиатских стран, семиты. Кочевники равнодушны к таким категориям, как «дух», «земля», «национальность». Они ни к чему не привязаны и ничем не дорожат, кроме материальных благ. Единственный идеал, который им доступен, – коммунизм, механически уравнивающий всех в правах. Кочевников влекут большие города – этот «отстойник всего отталкивающего: проституции, пивных, болезней, кино, марксизма, евреев, голых танцовщиц, негритянских танцоров и поросячьего кривляния так называемого современного искусства» [Цит. по: Miller Lane B. Architektur und Politik in Deutschland 1918–1945. S. 150.]. Даре ратовал за массовое переселение немцев в сельскую местность, утверждая, что не только «кровь», но и «почва» должна способствовать возрождению нации. Поддавшись агитации Даре, фюрер и его окружение (за исключением Геббельса) на рубеже 1920–1930-х годов увлекаются идеями дезурбанизма, а традиционная сельская архитектура провозглашается главным образцом для подражания. Именно на этом этапе (и только на нем!) идеи архитекторов и критиков круга Шульце-Наумбурга в полной мере совпадают с «линией партии», и «Кампфбунд» начинает активно привлекать адептов «стиля защиты родины» к сотрудничеству. Шульце-Наумбург становится официальным референтом этой организации. Его книги и статьи, призывающие к полному уничтожению «нового строительства» и других произведений авангардистов, печатаются огромными тиражами, а сам архитектор ездит с пропагандистскими турне по Германии. В поездках по стране заклятого врага модернизма сопровождает вымуштрованная охрана из числа штурмовиков СА (Sonder Abteilung). В 1930 году Шульце-Наумбург становится членом нацистской партии и получает мандат в рейхстаге. Его мгновенный карьерный рост и необычайное расширение возможностей служат соблазнительным примером другим защитникам традиционного искусства и патриархальных нравов. С 1931 по 1933 год членами «Кампфбунда», а затем и нацистской партии становятся Пауль Шмиттенер, Герман Бестельмайер и многие другие крупные немецкие архитекторы. В 1932 году в рамках «Кампфбунда» создается отдельная организация – «Союз борьбы немецких архитекторов и инженеров» («Kampfbund deutscher Architekten und Ingenieure»). Сюда входят почти все члены «Блока», а возглавляет организацию все тот же неутомимый Шульце-Наумбург. Главным объектом «борьбы», фигурирующей в названии, становится Баухауз и «новое строительство».С этого момента начинается жестокая травля архитекторов-рационалистов, причем ее инициаторами выступают вовсе не политики, а коллеги-архитекторы. Впрочем, политики национал-социалистического толка быстро присоединяются к этой борьбе, поняв, что могут легко переадресовать обвинения, направленные против новых построек, социал-демократическим властям. Последние, как уже говорилось, не только покровительствовали авангардистам, но и использовали успехи массового жилого строительства в качестве основного козыря на выборах. В 1930 году членом коалиционного правительства Тюрингии и министром образования был назначен еще один близкий друг Шульце-Наумбурга, член нацистской партии и будущий министр внутренних дел Третьего рейха Вильгельм Фрик. Первым его действием на новом посту стало изгнание архитектора Отто Бартнинга и всего штата его преподавателей из Веймарской художественной школы, наследовавшей Баухаузу. В том же 1930 году Баухауз подвергся гонениям в Дессау. Ситуация усугублялась тем, что в 1928 году Гропиус ушел с поста директора школы и его место занял Ханнес Майер, который во всеуслышание объявлял себя «последовательным рационалистом» и «научным марксистом». При Майере жизнь внутри Баухауза очень сильно политизировалась, дав наконец реальные поводы для обвинений ее сотрудников и студентов в приверженности «культурбольшевизму». В 1930 году в Баухауз поступила большая группа коммунистов, шефство над которыми взял лично Майер. Узнав об этом, бургомистр Дессау, социал-демократ Хессе, счел за лучшее удалить «научного марксиста» с поста директора, заменив его по рекомендации Гропиуса куда более осторожным и далеким от политики Мисом ван дер Роэ. Однако Ханес Майер, уходя с поста директора, подлил масла в огонь, собрав проектную бригаду «Рот Фронт» из членов «Красных бригад Баухауза» и отправившись вместе с ней на работу в Советский Союз. Майер был далеко не единственным, кто в эти годы предоставил врагам функционализма столь весомый повод к обвинениям в связях с большевиками, предательстве национальных интересов и склонности к «кочевничеству». В конце 1920-х – начале 1930-х годов в СССР выехало заметное число немецких архитекторов. Этому способствовал экономический кризис, который оставил без работы множество европейских проектировщиков в то время как в Советском Союзе, где с 1928 года началось выполнение первого пятилетнего плана, развитие экономики и бурное строительство только набирали обороты. Важным стимулом для немецких архитекторов-рационалистов служило и то, что новый стиль, за который их чем дальше, тем больше клеймили и преследовали на родине, в Советской России считался чуть ли не государственным. И еще одно великое преимущество отличало в глазах западных проектировщиков молодую Республику Советов: здесь не существовало частной собственности на землю. В 1930 году в Советскую Россию со своей бригадой уехал не только фанатичный коммунист Ханнес Майер, но и его однофамилец, кельнский планировщик Курт Майер, а также создатель Нового Франкфурта Эрнст Май, который всегда подчеркивал, что «не имеет никакого отношения к политике» [Цит. по: Wem gehort die Welt. Kunst und Gesellschaft in der Weimarer Republik. Berlin: Kunstamt Kreuzberg, 1977. S. 118.]. В 1932 году в Москву переехал и Бруно Таут. Мы не будем вдаваться в подробности пребывания немецких архитекторов в Советской России. Скажем только, что очень скоро их начали преследовать и здесь. Когда в 1932 году в Москве, Харькове и Тбилиси прошла «Немецкая строительная выставка», главный редактор журнала «Советская архитектура», замнаркома просвещения архитектор Николай Милютин выступил с заявлением, что немецкий функционализм есть порождение капиталистического по своей сути стремления к рационализации, которое «означает отказ от эстетики и превращает архитектора и художника в человека, начисто лишенного чувства прекрасного» [Цит. по: Ibid. S. 126.]. Таким образом, обвинения в «бесчеловечности», механистическом подходе к творчеству и небрежении художественными вопросами теперь предъявлялись немецким архитекторам не только на родине, но и в Советском Союзе. Разница состояла лишь в том, что в Германии их преследовали за пропаганду «большевистского» стиля, а в Москве упрекали за «буржуазность». Не стоит думать, что резкая перемена эстетического курса происходила в конце 1920-х – начале 1930-х годов только в тоталитарных государствах и была следствием исключительно политического давления. Скорее наоборот: тоталитарные политики пришли к власти благодаря тому, что в жизни всей Европы незаметно начался новый период, сопровождавшийся пересмотром едва ли не всех предшествующих установок. Тоталитарные правители лишь заставили естественные процессы работать на себя. Если же отвлечься от проблемы противостояния художников и власти, мы легко убедимся в том, что и самих авангардистов посещают в эти годы усталость и разочарование. На смену преклонению перед массами во всех странах Европы приходит в этот период своеобразный «культ личностей». Героями книг, живописных полотен, кинолент или даже музыкальных произведений вместо «маленьких людей» становятся великие полководцы, властители дум и политические лидеры прошлого и настоящего. Феномен сильной личности, независимо от того, идет ли речь о злодее или святом, завораживает и интригует. Ироничный Бертольт Брехт, который вот-вот назовет себя коммунистом, пишет в 1926 году: «С великими людьми плохо только одно (не считая того, что великие люди – это плохо само по себе) – что их всегда не хватает» [Brecht B. Aus Notizbuchern. 1919–1926. Цит. по: Гумбрехт Х.У. В 1926 году: на острие времени. С. 339.]. К концу 1920-х годов даже деятели культуры в массе своей очевидно начинают тяготиться свободой, причем частенько не только творческой, но и политической (через несколько лет анархист и смутьян Сальвадор Дали скажет: «Свобода вроде шпината – что-то вялое, без костей» [Дали С. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим. О себе и обо всем прочем. М.: Сварог, 1996. С. 191.]). И, как всегда в периоды усталости от излишней свободы, спасение видится в проверенном временем неизменном порядке, то есть в традиции. В конце 1920-х – начале 1930-х годов многие лидеры архитектурного рационализма берутся за пересмотр базовых художественных установок. Во Франции Ле Корбюзье отрекается от своего броского и эффектного утверждения, что «дом – это машина для жилья», чтобы заявить в 1929 году: «Где начинается архитектура? Она начинается там, где кончается машина» [Цит по: Trotzdem modern. Die wichtigste Texte zur Architektur in Deutschland. 1919–1933. S. 201.]. К близким выводам приходит незадолго до отъезда из Германии и Бруно Таут: «Архитектура – это прежде всего искусство пропорций. Конечно, можно утверждать, что старые, тесные, темные, затхлые дома хуже современных по гигиеническим, техническим и социальным показателям. Но с архитектурной точки зрения многие из них совершенны и таковыми останутся навсегда» [Цит. по: J. Posener. BrunoTaut. S. 45.]. А вот что думает в конце 1920-х Людвиг Мис ван дер Роэ: «Здание имеет длинную жизнь, оно переживает большинство из своих первоначальных функций и потому должно будет отвечать другим целям, и единственным неизменным фактором при течении времени должна оставаться его красота» [Цит. по: Мачульский Г.К. Мис ван дер Роэ. М.: Изд. литературы по строительству, 1969. С. 39.]. Парадоксально, но в годы обострения противостояния между традиционалистами и авангардистами их взгляды приобретают куда больше точек пересечения. Замечательный русский художник старшего поколения Л.О. Пастернак, после революции перебравшийся в Берлин, настаивал в конце 1920-х, что «из тупика, куда загнали Пикассы и т.п. только один спасительный выход – “назад”, ”к классицизму”, к ”натуре, к реальности и… самому однозначному академизму”» [Цит. по: Лапшин В. Леонид Пастернак в Берлине // Пинакотека. 2000. № 10–11. С. 134.]. Но ведь и сами «Пикассы» [Сам Пикассо создает в 1920-е годы многочисленные реплики на античные темы, в которых «античный мир предстает как нечто завершенное, законченное и статичное» (Бусев М.А. Предисловие // Жидель А. Пикассо. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 25).], то есть художники авангарда, пришли в конце 1920-х примерно к тем же выводам. Не случайно в эти годы классическая драма переосмыслялась на подмостках левых театров, классические сюжеты ложились в основу авангардных картин, книг и музыкальных произведений. Если говорить о немецкой архитектуре, то сходство с классическими прообразами все явственнее проступало не только в работах представителей старшего поколения, но и в произведениях их учеников-рационалистов. На смену динамизму и асимметрии снова пришли упорядоченность, сбалансированность, симметрия, иерархия. Так, в облике Германского павильона, спроектированного для Международной художественной выставки в Барселоне Мисом ван дер Роэ, критики усмотрели следы влияний Шинкеля. Торжественный строй здания, его горизонтальная ориентация, членение центральной (стеклянной) части фасада тонкими металлическими стойками, а также постановка сооружения на массивный монументальный цоколь – все это будило ассоциации с классицизмом столетней давности. В 1928–1930 годах тот же Мис ван дер Роэ построил в Брюнне (нынешний Брно) знаменитую виллу Тугендхат, архитектура которой развивала идеи барселонского павильона. Новые принципы «элитарного рационализма » архитектор распространил теперь на жилую постройку. Изогнутые панели из дорогого темного дерева, перегородки из молочного стекла в сочетании с удобной кожаной мебелью и персидскими коврами создавали новые представления о роскоши и комфорте. В интерпретации Миса функционализм превращался в модный стиль рафинированных богачей и приобретал черты модернизированного классицизма. Конечно, работы Миса ван дер Роэ иллюстрируют только одну из новых тенденций. Но говорить в целом о новом строительстве становилось со временем все труднее. Интернациональная архитектура, которая еще за несколько лет до этого воспринималась как нечто цельное и единое, распалась теперь на большое количество отдельных творческих манер, направлений и идеологий, а среди недавних единомышленников не замолкали горячие споры. Понятно, что разночтения внутри некогда единого лагеря модернистов дополнительно ослабляли их позиции перед лицом внешних врагов, коих, как уже говорилось, становилось все больше и больше. Тактика обороны, к которой прибегали загнанные в угол рационалисты, сводилась по преимуществу к тому, чтобы, признав некоторые творческие ошибки и «перегибы», категорически отрицать связь «нового строительства» с политикой. Так, на одном из экстренных собраний Веркбунда Мис ван дер Роэ заявил, что в целях безопасности «Веркбунд должен впредь маршировать без знамен». Тем же лозунгом Мис ван дер Роэ пытался руководствоваться и в Баухаузе, директором которого он, как уже говорилось, был назначен в 1930 году. Все административные действия нового директора были направлены на то, чтобы в кратчайшие сроки превратить Баухауз в сугубо профессиональную школу, не имеющую никаких точек соприкосновения с политикой. Однако сложившуюся за истекшие десять лет репутацию школы уже ничто не в силах было изменить. Когда в 1931 году нацистская партия получила в парламенте Дессау абсолютное большинство голосов, на Баухауз обрушилась новая, небывалая по силе волна репрессий. В 1932 году школу выселили из принадлежащих ей «безобразных» зданий, которые решено было в ближайшее время сравнять с землей (по счастью, этой угрозе не суждено было осуществиться). Баухауз лишился всех субсидий, отчислявшихся ему городом, а также статуса государственного учебного заведения. Перерегистрировав Баухауз как частную школу, Мис ван дер Роэ перевез его в Берлин, кое-как разместив мастерские в помещениях заброшенной телефонной фабрики. 1933–1936 Как известно, 30 января 1933 года президент Гинденбург подписал указ о назначении Гитлера канцлером. И хотя большинство в правительстве по-прежнему составляли консерваторы, а на выборах в марте того же года нацистская партия набрала только 44 процента голосов, нация и ее представители в парламенте продемонстрировали поразительную готовность сложить все свои права и полномочия к ногам нового канцлера. Томас Манн записал в дневнике 1933 года: «Немцам было дано сотворить революцию, никогда ранее не виданную: без идеи, против идеи, против высокого, лучшего, порядочного, против свободы, истины, права. С точки зрения человеческой никогда не происходило ничего подобного – и при этом бурное ликование масс, которые верят, что действительно этого хотели, в то время как их только хитрейшим образом обманули» [Манн Т. Из дневников // Манн Т. О немцах и евреях. С. 130.]. Томас Манн прав и не прав одновременно. Гитлер действительно, двигаясь к власти, прибегал к демагогии и лжи в беспрецедентных масштабах. Однако, может быть, он не гнушался делать это как раз потому, что видел перед собой «великую цель», которая, по его убеждению, оправдывала любые средства. Он искренне верил в избранность арийцев, немцев и свою собственную [«Из миллионов, – писал Гитлер в “Майн кампф”, – шаг вперед должен сделать один-единственный …кто силой убеждения из зыбкого идеализма широких масс сформулирует твердые принципы и возглавит борьбу во имя торжества правого дела, пока из набегающих волн праздного мира не появится гранитный утес, отлитый из нерушимого единства веры и воли». Цит. по: Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха: В 2 т. Т. 1. М.: Захаров, 2009. С. 164.]. Не менее искренне он ненавидел тех, кого считал врагами нации и помехой к осуществлению своей утопической мечты – созданию Тысячелетнего рейха. Немецкий народ к концу 1920-х годов истосковался не только по экономической и политической стабильности, не только по сильной власти, но и по идеальной цели. Именно этой иррациональной тоске по Вере и Мечте и был прежде всего обязан своими поразительными успехами Гитлер. По своему происхождению и личной истории он был полноправной частью толпы, поэтому его вкусы, представления о мире и об идеалах были чрезвычайно близки его потенциальным избирателям. То, что он апеллировал к их самым низменным чувствам и темным инстинктам, дополнительно облегчало его задачу. Своей главной, первоочередной целью фюрер, подобно утопистам всех времен, видел воспитание, а то и насильственную перековку («мы не должны забывать, что преимущества культуры надо внедрять в известной мере силой железного кулака» [Цит. по: Там же. С. 276.]) немецкой нации. Когда в его руках оказалась реальная власть, прежние рассуждения легли в основу многочисленных законов, регламентирующих работу и досуг, семейную и религиозную жизнь и даже любовь и ненависть граждан немецкой империи. Казалось бы, народ должен был воспротивиться столь бесцеремонному вмешательству государства в частную жизнь, но поскольку новую идеологию Гитлер преподносил как аналог новой Веры, даже самые жесткие и нелепые предписания новой власти большинство немцев встретило с исступленной радостью самоотречения. «В 1933 году в буржуазной Германии прокатилась мощная волна выступлений, выражавших готовность к национальной унификации и самонивелированию (Selbstgleichschaltung), которая воспринималась как великое национальное обновление» [Данн О. Нации и национализм в Германии. 1770–1990. С. 286.]. Путем постепенной трансформации законов Германия меньше чем за год была превращена в «единое, авторитарное и народное государство». Не только многопартийная система, но и сепаратизм были уничтожены, земельные парламенты упразднены. Уже в конце 1933 года был принят закон о «Единстве государства и партии», после чего сеть жесткого партийного контроля, подкрепленного и усиленного военизированными формированиями гестапо, СС и СА, накрыла всю страну и пронизала жизнь нации снизу доверху. Еще через полгода, когда скончался Гинденбург, было объявлено, что функции не только канцлера, но и президента возлагаются на Адольфа Гитлера. Военных Гитлер заставил присягнуть на верность не стране или конституции, а лично ему, а в рядах своих сподвижников, которых также имел все основания побаиваться, произвел первые серьезные «чистки». Отныне диктатура фюрера уже ничем не сдерживалась. Хотя на место народной любви постепенно заступал страх, эйфория в стране продолжала нарастать. По свидетельству американского корреспондента, жившего в те годы в Германии, «подавляющее большинство немецкого народа, казалось, ничего не имело против того, что его лишили личной свободы, что уничтожили много культурных ценностей, предложив взамен бессмысленное варварство, что его жизнь и работу подвергли такой регламентации, какой не знал даже он, приученный за много поколений к строгому порядку» [Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. Т. 1. С. 335.]. Даже среди образованного сословия было в первые годы режима не так уж много недовольных. Немецкое культурное сообщество, давно зараженное идеями «Великой Германии», пусть и с некоторыми оговорками, принимало и разделяло заметную часть нацистских лозунгов. Кроме того, деятели культуры еще в большей степени, чем другие граждане государства, были благодарны новой власти за то, что во главу угла были снова поставлены духовные ориентиры и идеальные цели. Отношение к новой власти среди представителей интеллигентных профессий в огромной степени зависело и от конкретного рода их деятельности. Скажем, писатели, которые отныне не имели возможности свободно издавать свои произведения, были поставлены в самые невыгодные условия и в массовом порядке покидали страну. Художники, как казалось поначалу, имели больше шансов сохранить профессию и лицо, поскольку могли ограничить свое творчество набором нейтральных тем: пейзажами, натюрмортами, портретами. (То, что поводом для репрессий может стать не только тематика, но и творческая манера, стало ясно далеко не сразу.) Зато музыканты в большинстве своем вообще не видели оснований для паники и продолжали успешно функционировать при нацистах. Что касается архитекторов, то они связывали с новой властью едва ли не самые большие надежды. Гитлер не раз заявлял о наличии у него грандиозных строительных планов, а «вера в свое политическое призвание и страсть к архитектуре были в нем нераздельны» [Шпеер А. Воспоминания. Смоленск: Русич, 1998. С. 110.]. Главное, что привлекало архитекторов как старшего, так и младшего поколения в художественных лозунгах новой власти, была ее установка на создание «высокого», духовно насыщенного искусства. В своем выступлении на съезде Союза немецких архитекторов, проходившем в 1933 году, Петер Беренс с удовлетворением отмечал, что начавшуюся эпоху характеризует «идеалистическая устремленность, идеализм, который снова пробудился для мысли и действия» [Цит. по: Krawietz G. Peter Behrens im Dritten Reich. Weimar: Verlag und Datenbank fur Geisteswissenschaften, 1995. S. 21.]. «Мы создадим священные здания и символы нашей культуры» [Цит. по: Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М.: Миф, 1993. С. 196–197. ], – обещал Гитлер. Тем, кто устал от разговоров о главенстве разума над чувствами, будущего над прошлым, а технического прогресса над духовной жизнью, тем, кто в последние годы республики чувствовал себя потесненным в творческих и человеческих правах, хотелось верить, что при новой власти развитие культуры пойдет по более разумному, сбалансированному пути. Практически никто не мог предвидеть, что в условиях политической диктатуры «перегибы» в художественной области примут куда более страшные масштабы, а объектом преследований в конце концов окажется не тот или иной стиль, но талант как таковой. Все это стало очевидно позднее, а в первые месяцы режима в строительной области во многом продолжала действовать инерция. По свидетельству исследователей Й. Печ и В. Шэхе [Petsch J., Schaeche W. Architektur im deutschen Faschismus: Grundzuge und Charakter der nationalsozialistischen Baukunst // Realismus. 1919–1939. S. 396–407.], частные структуры и административные органы, отвечавшие за строительство, поначалу функционировали так же, как и при республике. Чиновники на местах в большинстве своем сохранили за собой должности, большинство строительных и производственных программ продолжали осуществляться, да и «стили» оказались заимствованы из недавнего демократического прошлого. Разве что в жилой сфере наблюдались решительные перемены, поскольку строительство домов с плоскими крышами и горизонтальными окнами было запрещено законом по всей территории Германии. Немаловажно также, что на многие ключевые посты сразу после прихода нацистов к власти были назначены квалифицированные и достаточно яркие архитекторы. Правда, среди них были почти исключительно традиционалисты, но ведь и этот факт вполне можно было трактовать как акт восстановления справедливости после нескольких лет безоговорочного лидерства модернистов. Кстати о модернистах. То, что теоретические постулаты и политические лозунги нацистов были предельно темны и в них смешивались аргументы разных сторон [По мнению историка и филолога Виктора Клемперера: «Национал-социализм усваивает фашизм, большевизм, американизм, перерабатывая все это в германской романтике». Цит. по: Эткинд Е. Две еврейские судьбы (Читая дневники Виктора Клемперера) // Эткинд Е. Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб.: Академический проект, 2001. С. 448.], внушало не только традиционалистам, но и представителям практически всех прежних школ, направлений и групп надежду на возможность сотрудничества с новой властью. Даже представители левого авангарда, которых сторонники Гитлера начали травить задолго до своей окончательной победы, далеко не сразу расстались с иллюзией, что смогут убедить гонителей в своей правоте. Революционный тон нацистов «настолько напоминал тексты радикальных художников и архитекторов после 1918 года, что порождал в среде сторонников современного искусства надежду, что им удастся убедить новый режим поддержать новое строительство» [Цит. по: Miller Lane B. Architektur und Politik in Deutschland 1918–1945. S. 168.]. Исследователь тоталитарного искусства Игорь Голомшток справедливо отмечает, что «как в России, так и в Германии авангард был своего рода генератором эстетического и политического экстремизма. Его путь шел в революцию, но в Германии 20-х годов его представители оказались перед выбором: революция красная или коричневая. И та, и другая обладали притягательной силой для тех, кто ненавидел существующий буржуазный порядок и жаждал разрушить его основы как в культурной, так и в социальной жизни» [Голомшток И. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994. С. 59.]. Конечно, в убеждениях нацистов и художников левого крыла имелось немало принципиальных расхождений. Но и сходство между ними также было немалое. И художники авангарда, и нацисты жаждали не только разрушить старый мир, но и выстроить на его месте новый, идеальный, вследствие чего их преобразовательные планы имели такую специфику и такие масштабы, что в принципе не могли быть осуществлены в демократическом государстве. «Художник-авангардист, для которого внешний мир обратился в черный хаос, стоит перед необходимостью создать новый мир в целом, и потому его художественный проект необходимо является тотальным, неограниченным. Следовательно, для реализации этого проекта художнику требуется тотальная власть над миром – и прежде всего тотальная политическая власть» [Гройс Б. Утопия и обмен. [М.]: Знак, 1993. С. 26.]. Не случайно в недавнем прошлом многие немецкие функционалисты старались заинтересовать своими идеями лидеров Советского Союза и Италии [Позднее, уже после оккупации Франции немецкими войсками, Ле Корбюзье сумел заинтересовать своими архитектурными идеями коллаборационистское правительство маршала Петена.], а теперь надеялись увлечь ими Гитлера. Известно, что Гитлер мечтал осуществить в недалеком будущем строительство некоего идеального, «окончательного» государства, «Тысячелетнего рейха». Такой же «окончательностью» были проникнуты и планы авангардистов, рассчитывавших выстроить новый мир и воспитать новых людей. Как очень точно подмечает С.П. Батракова, «…утопия... несет в себе именно “ограниченную точку зрения”, замыкая живое развитие истории изобретенной формулой счастья. Именно такой финальностью отмечены различные варианты “абсолютной”, “тотальной”, “универсальной формы”, предложенные во спасения человечества художниками-утопистами» [Батракова С.П. Искусство и утопия. Из истории западной живописи и архитектуры ХХ века. М.: Наука, 1990. С. 24.]. Многим надеждам авангардистов суждено было сбыться, многим прогнозам – осуществиться, а некоторым важнейшим процессам, характеризующим наше современное бытие, они положили начало и дали ход. Однако в полной мере мир, рожденный их воображением, не имел шансов к осуществлению именно в силу своей окончательной завершенности, не предполагающей ни случайности, ни развития, ни включенности в реальный исторический процесс. Не потому ли строительству нового мира был предпослан миф о нем, долженствующий закамуфлировать недостатки, сгладить противоречия, но главное – заполнить зияющие пустоты, пробелы в той совершенной и полной картине будущего, которой так и не суждено было принять зримые очертания. Отдельные реально осуществленные объекты трактовались как видимая вершина огромного скрытого от глаз айсберга, которому в некоем неопределенном будущем предстояло всплыть на поверхность. Этот опыт сращения реального и воображаемого в рамках одного политико-художественного мифа очень пригодился Гитлеру и его идеологам. Осознанно или нет, нацисты действовали по той же схеме, что и авангардисты, хотя творимый ими миф разительно отличался от модернистского не столько даже по идеологическим, сколько по эстетическим своим характеристикам. Именно «вкусовой» разнице суждено было сыграть роковую роль в отношениях нацистов с художественным авангардом, ведь, как очень точно формулируют авторы книги «Массовая психология фашизма», «фашистская ментальность возникает, когда реакционные концепты накладываются на революционную эмоцию»[Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 23.]. Эта самая реакционность, консервативность нацистской идеологии давала о себе знать в первую очередь в сфере культуры. Мы помним, что авангардисты надеялись использовать силу абсолютной власти ради продвижения элитарного искусства, непонятного и неприятного массам. Нацисты же, напротив, искренне разделяли самые низкопробные вкусы толпы и стремились натравить ее на носителей индивидуальной творческой мысли. Томас Манн характеризовал «социализм фашизма» как «социализм презрения к человеку и террор против культуры со стороны мелкого буржуа» [Манн Т. О немцах и евреях. С. 46.]. Новая власть опиралась на послушную, безгласную массу, готовую слепо, без раздумий повиноваться любым приказам, а потому старательно поощряла в «своем» народе ненависть ко всему неповторимому, штучному. Любые проявления индивидуальности казались подозрительными, а наличие незыблемых принципов (не только моральных, но и художественных!) воспринималось как недопустимое вольнодумство, дерзость, угроза строю. «С точки зрения тоталитаризма любой авангард нарушает порядок, а причиной тому не его содержание, а дерзкий факт самого его существования и претензий на индивидуальную мысль» [Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 32.]. Не случайно представители всех профессий, включая и творческие, были первым делом подвергнуты в Третьем рейхе «добровольно-принудительной» унификации. Член нацистской партии, ученик Мутезиуса архитектор Карл Кристоф Лёрхер так расшифровывал это понятие: «Унификация в национал-социалистическом смысле означает, что все в равной мере должны подчиниться общей руководящей идее. Являетесь ли вы при этом авторитетом в своей области или нет, не имеет никакого значения» [Lorcher C.Ch. Gleichschaltung // Teut A. Architektur im Dritten Reich 1933–1945. Berlin; Frankfurt am Main; Wien: Ullstein Verlag, 1967. S. 86–87.]. В конечном итоге, то, что нацисты многое позаимствовали из опыта художников-авангардистов, сказалось на участи последних не положительным, а самым что ни на есть отрицательным образом. Фюрер и его идеологи ополчались с такой яростью на «болезненных выродков, умалишенных и опустившихся людей» [Цит. по: Schuster P.-K. Munchen – das Verhangnis einer Kunststadt // Nationalsozialismus und «Entartete Kunst». Munchen: Prestel-Verlag, 1987. S. 30.], потому что, уподобляясь самим авангардистам, приписывали влиянию искусства почти неограниченные возможности. Похоже, они всерьез верили, что недоступные их пониманию произведения способны сбивать с толку немецкий народ, развращать и разлагать его душу, а потому видели в его создателях не просто «извращенцев и дегенератов», но и врагов строя. Позднее, впрочем, стало ясно, что отнюдь не только авангардисты, но и художники, придерживавшиеся куда более близких нацистским лидерам стилистических (да и идеологических) установок, рано или поздно попадают в опалу вовсе не за свои стилистические или политические предпочтения, а просто за чрезмерную верность принципам и увлеченность делом. Однако на начальном этапе никому не приходило в голову ждать подобного подхода от власти, которая во главу угла ставила веру в идеи. Большинству казалось, что достаточно представить убедительные свидетельства своей политической благонадежности и расовой чистоты, чтобы отвести от себя подозрения и заручиться поддержкой нового режима. Либеральные выступления Геббельса, назначенного в сентябре 1933 года главой вновь образованной Палаты по культуре, а также то, что приглашения стать членами палаты он разослал в числе прочего некоторым художникам-экспрессионистам [О непростых отношениях Геббельса с экспрессионистами см. подробнее: Голомшток И. Тоталитарное искусство. С. 78–79.] и архитекторам-модернистам, дополнительно обнадежили сторонников «нового строительства», и по стране прокатилась волна выступлений и публикаций в его защиту. Вальтер Гропиус взывал к патриотизму сотрудников Палаты по культуре: «Неужели все достигнутые немцами в этой области успехи пропадут втуне? Неужели мы будем принуждены прекратить делать то, что принесло нам такой успех и, являясь свидетельством высоты немецкого духа, было подхвачено и развито остальными народами? Неужели Германия может себе позволить выбросить новое движение и ее лидеров за борт раньше, чем будет создано какое-то другое искусство, сопоставимое с нынешним по уровню?» [Цит. по: Miller Lane B. Architektur und Politik in Deutschland 1918–1945. S. 172–173.] К Геббельсу и его заместителям по Палате за поддержкой обращались также Мартин Вагнер, Хуго Херинг и другие члены «Кольца». Главное, о чем просили все представители архитектурного авангарда, касалось возможности публично защитить попавший в опалу интернациональный стиль. Однако Гитлер быстро положил конец всем открытым спорам и дискуссиям, дав понять, что авангард во всех его проявлениях подлежит уничтожению. Первым актом публичного спектакля, в который новые идеологи решили превратить уничтожение авангарда, стал окончательный разгром Баухауза. Вследствие доноса в берлинском помещении школы весной 1933 года прошли обыски. После этого помещения Баухауза были «временно» опечатаны. Мис ван дер Роэ в качестве директора школы просил об аудиенции Розенберга и обращался за помощью к мюнхенскому архитектору, влиятельному члену нацистской партии Винфриду Вендланду. В ответ он получил приказ удалить из преподавательского состава «коммуниста Кандинского» и «еврея Хильберсаймера», а также утвердить план учебных занятий в новом министерстве образования. Отказ Миса последовать этим требованиям привел к закрытию школы 10 августа 1933 года. В других учебных заведениях Германии художественного профиля сразу после этого прошли «чистки» преподавательского состава. После этих событий функционалисты начали всерьез задумываться об эмиграции. Свидетель событий Юлиус Позенер отмечал, что именно им, лидерам интернациональной архитектуры, сумевшим столь многого добиться у себя на родине, решение об отъезде давалось особенно тяжело [Сам Позенер, незадолго до этого закончивший архитектурный факультет и работавший критиком, по собственному признанию, уехал из страны только потому, что был евреем. «Это не имело никакого отношения к моему мировоззрению. Беря пример со своего отца-патриота или брата, ушедшего добровольцем на фронт, будучи воспитан в буржуазном доме, я прекрасно понимал язык нацистов. И он вдохновлял меня… Если бы я не был евреем, я ничего не мог бы гарантировать. Это я заявляю тем, кто говорит, что всегда был демократом. Это неправда». (Interview mit Prof. Julius Posener in Berlin (W) am 3.12.1978 // Die Zwanziger Jahre des Deutschen Werkbunds. S. 76–77.) Свидетельство Позенера, нравственно безупречного человека, который впоследствии пошел сражаться против нацистской Германии на стороне союзников, лишний раз подтверждает, что идеи Гитлера таили в себе огромный соблазн даже для представителей интеллигенции. Однозначно антифашистскую позицию занимали в те годы единицы..] Вальтер Гропиус писал в письме к Пёльцигу: «Я не имею ни малейшего желания эмигрировать, ибо здесь чувствую себя дома, и потому всячески заинтересован в том, чтобы документально подтвердить в официальных инстанциях ложность обвинений, распространяемых против меня. Я никогда не принадлежал ни к какой партии и вообще никак не был связан с политикой, и мне кажется смехотворным, что мое имя – имя немца и пруссака, заслужившего авторитет в мире, – со стыдом замалчивается за границей нынешними официальными немецкими властями» [Цит. по: Die Zwanziger Jahre des Deutschen Werkbunds. S. 287–288.]. Гропиусу все-таки пришлось уехать, и, как знать, может быть, именно благодаря тому, что власть вынудила его это сделать, он сумел сохранить непререкаемый авторитет в глазах современников и потомков. Как ни кощунственно это звучит, но многие деятели авангарда могут быть благодарны Гитлеру за то, что он так решительно отказался от сотрудничества с ними и в исторической перспективе способствовал сохранению ими доброго имени. Куда более тяжелым с моральной точки зрения оказалось положение традиционалистов. Среди них также было немало честных и искренне преданных своему делу людей, но едва ли не все они оказались скомпрометированы тем, что, вступившись за дорогие их сердцу традиционные ценности, сыграли на руку нацистам или даже открыто поддержали их. Многих защитников традиции ждали серьезные неприятности после падения Третьего рейха, хотя альянсу большинства из них с тоталитарной властью в большинстве случаев суждено было быть недолгим. Основная тактика Гитлера во внутренней политике состояла в том, чтобы разрушать все прежние связи – профессиональные, политические, географические и даже семейные – и устанавливать вместо них новые, подконтрольные партии и лично фюреру. В результате люди утрачивали прежние признаки идентификации, оказывались оторваны от привычной среды, дезориентированы и в конечном итоге морально сломлены. В согласии с этой политикой уничтожению подлежали не только союзы авангардистов, вроде «Кольца», но и все остальные ранее существовавшие объединения, включая «Веркбунд» и даже «Кампфбунд». Борьба с авангардом, осуществлявшаяся по преимуществу руками кампфбундовцев, обеспечила Гитлеру симпатию огромного числа избирателей и помогла обрести власть. Чтобы эту власть сохранить и преумножить, на новом этапе требовалось обратить оружие против прежних сторонников. Уже в 1934 году на партийном съезде в Нюрнберге Гитлер обрушил свой гнев на тех, кто, «подобно отшельникам, прячется в сказочном немецком мирке, над которым потешаются даже евреи» [Цит. по: Durth W. Deutsche Architekten: Biographische Verflechtungen 1900–1970. Braunschweig; Wiesbaden: Friedr. Vieweg & Sohn, 1986. S. 156.], и заявил, что не допустит, чтобы в Германии осуществились «бюргерский ренессанс и консервативные реформы» [Ibid.]. Будущее страны не за возрождением крестьянской идиллии, а за строительством больших современных промышленных городов, объявил он. С этого момента авторитет «Кампфбунда » и его членов в новом государстве начал стремительно падать. В 1935 году «Кампфбунд» утратил и все свои административные полномочия, уступив их Имперской палате по культуре и Министерству пропаганды, во главе которых встал давний враг Наумбурга и Розенберга Йозеф Геббельс. Прошло еще несколько лет, и главный пропагандист «стиля защиты родины», изобретатель «камер ужасов» Шульце-Наумбург был не только полностью отстранен от дел, но и фактически проклят первым лицом страны, с которым решился в открытую спорить. Наумбургу была запрещена педагогическая деятельность, а еще позднее он оказался под угрозой изгнания из партии. История Наумбурга вполне типична. Почувствовав, что все рычаги власти оказались в его руках, Гитлер начал избавляться от наиболее ретивых своих сподвижников, демонстрируя, что требует не столько определенных убеждений, сколько слепого повиновения. В соответствии с этой установкой уже к 1934 году в Палате по изобразительному искусству, без членства в которой архитекторы и художники не имели теперь права получать заказы, были сознательно собраны представители самых разных школ и направлений. Среди них попадались даже знаменитые модернисты, такие, например, как Мис ван дер Роэ, остававшийся в стране вплоть до 1938 года. «С уверенностью можно утверждать, что никакой из избранных архитектором стилей не мог стать поводом к его исключению из Палаты» [Miller Lane B. Architektur und Politik in Deutschland 1918–1945. S. 175.]. Зато таким поводом могла стать излишняя преданность тем или иным художественным, идеологическим или нравственным принципам, даже если эти принципы не шли вразрез с лозунгами национал-социализма. В 1935 году главой «Веркбунда» вместо избранного в 1933 году традиционалиста Лерхера был назначен дизайнер Герман Греч, в недавнем прошлом сотрудничавший с модернистами [В 1927 году, например, Греч оформил часть помещений в доме Беренса на территории Вайсенхофа.]. А архитектурную пропаганду в стране примерно в эти же годы возглавил ученик Тессенова Рудольф Вольтерс, успевший несколько лет проработать в бригаде Эрнста Мая в Москве. С середины 1930-х Гитлер все охотнее окружал себя теми, кто имел вполне весомые «грехи молодости», но поспешил отречься от собственного прошлого. «Художники – политические глупцы, поэтому не стоит напоминать им о том, что они натворили раньше» [Interview mit Albert Speer am 16.11.1978 in Munchen // Die Zwanziger Jahre des Deutschen Werkbunds. S. 302–303.], – с показным добродушием говаривал Гитлер. Понятно, что людьми, легко меняющими убеждения, проще было командовать, тем более, что под рукой всегда имелся материал для их шантажа. Возможно также, что, приближая бывших модернистов, Гитлер стремился продемонстрировать внешнему миру лояльность режима к инакомыслию и свою причастность к новейшим веяниям в искусстве. Или он надеялся, что люди, имевшие некогда отношение к созданию нового стиля, помогут повысить качество немецких изделий и построек, утративших в 1930-е прежний авторитет на мировой сцене. Однако без принципиальности, которую так решительно искоренял в своих подчиненных Гитлер, нечего было и думать о создании истинных шедевров. 1936–1945 Многие исследователи сходятся во мнении, что уже около 1936 года в истории Третьего рейха незаметно начался новый этап. Гитлер счел, что успехи, достигнутые нацистской Германией за истекшие три года, настолько велики, что позволяют отодвинуть проблемы внутренней политики на задний план и перейти к осуществлению главной, заветной цели – пересмотру итогов Версальского договора и изменению государственных границ империи. Начавшаяся подготовка к большой войне отразилась на всех аспектах жизни страны, включая архитектуру. В первые годы режима Гитлер лично курировал лишь самые важные постройки, в то время как в жилом, промышленном и даже отчасти общественном строительстве продолжали реализовываться прежние программы, под которые с большим или меньшим успехом подверстывалась новая идеологическая база. Около 1936 года акценты начали смещаться. Теперь в центре внимания властей оказались военные заводы, автодороги, железнодорожные узлы, а также крупные города, которые Гитлеру не терпелось подготовить к роли крупных центров будущей империи-победительницы.  Вернер Марх. Дом немецкого спорта в Берлине. 1934–1936Поскольку реконструкция городов и создание в них крупных государственных и общественных построек были делом куда более идеологически значимым, чем строительство дешевого жилья, фабрик и автодорог, возникла насущная потребность в выработке единого «стиля фюрера», коим и был в 1937–1938 годах объявлен упрощенный и подчеркнуто монументальный неоклассицизм. На данном этапе нацистские идеологи задались целью окончательно вытравить из произведений искусства индивидуальные авторские черты, свести все ранее существовавшие течения, направления и манеры к некому среднестатистическому художественному результату.  Вернер Марх. Олимпийский стадион в Берлине, 1934-1936Исчерпывающее представление о том, какими принципами руководствовались «архитектурные главнокомандующие» Третьего рейха, дает директивная статья другого любимца Гитлера – Фридриха Таммса. В статье, озаглавленной «Величие в архитектуре» («Das Grosse in der Baukunst») и обошедшей передовые полосы всех крупных нацистских газет, Таммс писал, что нацистские постройки должны быть «строгими, скупыми, ясными и выполненными в классических формах. Они должны быть просты. Должны нести в себе новый масштаб, “ориентированный на небесные сферы”. Их масса должна быть больше, чем того требуют практические соображения, дабы возвыситься над обыденностью. Их созданию должен предшествовать волевой порыв, но они должны быть надежно сконструированы и выполнены в соответствии с лучшими ремесленными традициями, ибо создаются в расчете на вечность. Никакой практической цели у таких зданий нет и быть не может – они должны нести идею, в силу чего им надлежит иметь вид неприступный и вызывать у людей не только удивление, но и страх. Подобная архитектура не может быть персонифицированной, авторской, ведь она – плод создания не отдельного человека, но отражение картины мира целого сообщества, объединенного общими идеалами» [Tamms F. Das Grosse in der Baukunst // Durth W. Deutsche Architekten: Biographische Verflechtungen 1900–1970. S. 242.]. Хотя цитируемый текст появился лишь в 1942 году, он скорее обобщал предшествующий опыт, чем предлагал директивы на будущее, поскольку все перечисленные в нем характеристики присутствовали в большинстве официальных немецких построек уже в конце 1930-х годов. Одновременно с творческой унификацией шел и другой процесс: на место специалистов, опирающихся на мнение экспертного профессионального сообщества, на руководящие должности назначались функционеры, обладавшие невиданными доселе полномочиями и подотчетные лично Гитлеру. Так, 30 января 1937 года генеральным инспектором по застройке и реконструкции Берлина был назначен тридцатидвухлетний Альберт Шпеер [О проекте Нового Берлина см.: Маркин Ю.П. Искусство Третьего рейха. М.: РИП-Холдинг, 2012. С. 88–93.]. Уже в 1934 году, после смерти Людвига Трооста, Шпеер занял место «у трона» Гитлера. За несколько предшествующих лет он успел продемонстрировать не только собранность, трудолюбие и талант организатора, но и требуемый уровень лояльности новой власти. «Я сознавал себя архитектором Гитлера. Политические события меня не касались. Я лишь выводил для них импозантные декорации» [Шпеер А. Воспоминания. С. 155.], – так позднее охарактеризует свое творческое кредо и роль в Третьем рейхе сам архитектор. Поручая Шпееру проектирование новой мировой столицы, Гитлер с самого начала дал понять, что основная цель архитектора состоит не в том, чтобы разгрузить транспортные артерии города, санировать неблагополучную застройку и т.д., а в том, чтобы «переплюнуть Париж и Вену» [Там же. С. 103.]. Он не ждал от генерального инспектора творческих откровений, но требовал, чтобы тот, опираясь на вполне конкретные исторические прототипы, продемонстрировал «превосходство» новых зданий по чисто формальным характеристикам – ширине, высоте, числу колонн и т.д. Шпеер вспоминал: «Все прежние архитектурные пропорции Берлина предстояло разрушить с помощью двух строений, которые Гитлер пожелал воздвигнуть на новой, Парадной улице. С северного конца, неподалеку от рейхстага, он предусматривал гигантский дом собраний, здание с куполом, в котором бы многократно уместился римский Собор Святого Петра. Диаметр купола должен был составить двести пятьдесят метров. Под большепролетным перекрытием такого купола на площади в 38 000 квадратных метров могли разместиться стоя 150 000 слушателей... На некотором расстоянии от Южного вокзала Гитлер предполагал соорудить как противовес Дому собраний Триумфальную арку, высоту которой он установил в сто двадцать метров» [Там же. С. 101–102.]. Первыми образцово-показательными объектами, удовлетворявшими требованиям Гитлера, были мюнхенские постройки Трооста – Дом немецкого искусства и комплекс зданий на Королевской площади. В свою очередь, первой берлинской постройкой, знаменовавшей начало реконструкции немецкой столицы, стало здание Рейхсканцелярии. «Предоставляю в ваше распоряжение всю Фоссштрассе. Расходы меня не волнуют. Главное, чтобы строить быстро, но при том солидно» [Шпеер А. Воспоминания. С. 140.], – так Гитлер сформулировал свое задание, обращаясь к Шпееру в конце января 1938 года. В соответствии с приказом, Рейхсканцелярия была выстроена меньше чем за год, хотя для ее возведения потребовалось снести целый квартал существующей застройки и вырыть огромный котлован для бомбоубежища. Надо сказать, что после 1936 года Гитлер еще сильнее склонен был торопить своих архитекторов, чем в первые годы режима. Несмотря на уверения, что Третий рейх просуществует не меньше тысячелетия, несмотря на декларированное стремление ориентировать новые постройки на «вечность», Гитлер неимоверно спешил в осуществлении всех своих планов. Известно, что бурное развитие промышленности и явившееся его следствием активное вмешательство буржуазии в культурный и политический процесс уже в XIX веке изменили привычный темп существования, внеся в него незнакомую доселе судорожность, лихорадочность и поспешность. Представителям буржуазии, сословия молодого и активного, но одновременно довольно инфантильного и самонадеянного, было свойственно стремление решительно вмешиваться в ход истории и пытаться переделать жизнь по своему усмотрению. Гитлер по своему происхождению, опыту и психологическому складу находился еще ступенью ниже, и качества, присущие буржуазному сословию, в этом предводителе «восставших масс» переродились чуть ли не в пародию. Нетерпение и самонадеянность главы немецкого государства не знали себе равных. При всем прокламируемом почтении к «корням» Гитлер в реальности был начисто лишен уважения к традиции и преемственности. Не случайно он считал возможным перекраивать по собственному усмотрению историю и «назначать» себе и «своему народу» предшественников и предков. В силу отсутствия какого-либо образования и привычки к систематическому профессиональному труду он, казалось, даже не подозревал о том, как долго вызревают плоды культурной эволюции и как нелегко достигается то, что в искусстве именуется словом «качество». Он не видел ничего невозможного в том, чтобы выстроить (в буквальном и переносном смысле слова) идеальное государство в считанные месяцы, при этом руководствуясь весьма приблизительными представлениями и планами. Шпеер свидетельствует, что в архитектуре «для Гитлера было характерно желание без долгих раздумий провозгласить первую же идею как единственно – интуитивно – верную» [Там же. С. 118.]. Поиск удобной планировки, работу с пропорциями или расчет оптимальных показателей он считал ненужной прихотью и блажью специалистов, с мнением которых с каждым годом считался все меньше. Согласно убеждениям Гитлера, главное назначение новых построек состояло в том, чтобы в настоящем служить постоянной декорацией к красочной инсценировке, которую нацистские идеологи именовали жизнью в Третьем рейхе, а в будущем – внушать потомкам трепет перед ней. В силу этого поспешно нарисованные ротонды, лестницы, гигантские створки дверей, колоннады, портики, а также грубые, массивные скульптуры, ставшие неотъемлемым атрибутом новых построек, в большинстве случаев несли в себе нечто бутафорское и скорее изображали архитектуру, чем в реальности являлись ею. Шпеер писал о постройках Третьего рейха: «При пристальном изучении вы придете к выводу, что в это время в архитектуре не возникло никакого нового направления... Разница с архитектурой, существовавшей до 1933 года, была не в выразительных средствах и отдельных применявшихся элементах, будь то карниз, столб или колонна, а лишь в масштабах, которые теперь требовались. Масштабы стали другими» [Interview mit Albert Speeram 16.11.1978 in Munchen. S. 306.]. Хотя архитекторы Гитлера действительно не смогли предложить миру ничего принципиально нового по форме, Шпеер напрасно отказывает продуктам их деятельности в своеобразии. «Новые масштабы», о которых он пишет, в конечном итоге привели к перерождению архитектуры, поскольку в корне изменили ее специфику. Гитлеровские постройки демонстративно порывали с основным назначением зданий – функциональным обслуживанием граждан – и отказывались от традиционной точки отсчета – человека. Кроме того, Гитлер панически боялся «сложного», авторского искусства, допускающего множественность толкований и интерпретаций. Поэтому он требовал от своих архитекторов, чтобы создаваемые ими «декорации из камня» несли самый поверхностный, легко считываемый смысл, а их воздействие на зрителя было однозначным и прямолинейным. Так, Гитлер был в восторге от того, что будущим гостям Рейхсканцелярии, прежде чем попасть к нему на прием, предстояло преодолеть расстояние в 220 метров: «Они уже при входе по дороге в зал ощутят мощь и величие немецкого рейха» [Шпеер А. Воспоминания. С. 142.]. И рабочий кабинет «снискал полное одобрение Гитлера. Особенно порадовала его инкрустация на письменном столе, изображавшая полуобнаженный меч: „Хорошо, хорошо… Когда это увидят дипломаты, которые будут передо мной сидеть, их прошибет страх”» [Там же. С. 158.]. Не только постоянная спешка и страх перед всесильным фюрером, не только грубое и поверхностное понимание последним того, что есть «художественное впечатление», мешало архитекторам Третьего рейха создавать истинные шедевры. Натужная серьезность и пафос, с которыми в годы тоталитаризма они вынуждены были подходить к решению своих профессиональных задач, лишали их произведения какого бы то ни было артистизма, легкости и обаяния. Из нацистских построек был вытравлен дух игры и самоиронии, являющийся гарантом развития искусства, да и творческого процесса как такового. Таким образом, принципиальная разница между эпохой нацизма и республиканским отрезком истории обуславливалась вовсе не стилистическими предпочтениями, как принято думать, а принципиально иным подходом к самому творческому акту. Между нацистской архитектурой и архитектурой предшествующих лет, независимо от того, шла ли речь о модернистской или традиционалистской ее ветви, пролегала непреодолимая пропасть, обусловленная различным целеполаганием и различным пониманием самой сути искусства. Еще раз повторим: Гитлер добивался в первую очередь того, чтобы нацистские постройки «впечатляли» и внешне походили на шедевры прошлого – установка инфантильная и чрезвычайно далекая от истинных задач художника. Для обеспечения внешнего подобия новых зданий великим образцам прошлого требовалось, во-первых, использовать в их архитектуре ордерные формы и узнаваемые декоративные элементы, а во-вторых, строить исключительно из традиционных, «внушительных» и «солидных» материалов. В результате главным, что приносили в жертву проектировщики Третьего рейха, оказывалось художественное качество, то есть как раз то, что составляло суть и главную цель поисков по крайней мере двух предшествующих поколений немецких архитекторов. Конечно, авангардисты также очень спешили, когда пытались построить основы идеального будущего в несовершенном настоящем. Однако для ускорения процесса строительства они действовали едва ли не противоположным образом, чем архитекторы Третьего рейха. Первое и главное, чего добивались строители новых домов и районов в эпоху республики, была максимальная рационализация, оптимизация всех процессов, то есть как раз то, от чего сразу же отказался Гитлер. Как мы помним, ради скорейшего наделения максимального количества жильцов жилыми метрами модернисты порой готовы были жертвовать техническими показателями, используя в строительстве самые дешевые, иногда даже бросовые материалы. Однако никогда, ни при каких обстоятельствах в жертву спешке не приносилось художественное качество произведений. Пропорции целого и частностей, сочетания цветов, выверенность объемно-пространственных композиций – были главным, что в реальности ценилось в кругу модернистов, как бы упорно они этого не отрицали. Всей своей деятельностью архитекторы-рационалисты как будто стремились доказать, что художественное качество изделий и построек обусловливается уровнем таланта и творческой искушенностью их авторов, а вовсе не качеством материалов, из которых они создаются. Что же касается традиционалистов, в число которых, как мы помним, входили почти все архитекторы старшего поколения, в довоенные годы создавшие Немецкий Веркбунд, то, в соответствии с лозунгами этой организации, они вообще не готовы были поступиться никакими качественными характеристиками – ни техническими, ни художественными. В 1920-е годы их возмущала добровольная сдача позиций в вопросах качества строительства. Не меньшее раздражение вызывало у приверженцев традиции столь характерное для рационалистов пренебрежение мнением будущих жильцов. В отличие от обуреваемых революционными идеями авангардистов, их «мелкобуржуазные» оппоненты продолжали думать не столько о благе всех, сколько о личном благополучии каждого. Если учесть все это, станет понятно, что архитектура Третьего рейха ни в коей мере не оправдала надежд большинства традиционалистов. Очень характерно в этом смысле поведение Генриха Тессенова, на некоторые довоенные постройки которого Гитлер призывал равняться «своих» архитекторов. Всю свою жизнь Тессенов не любил больших городов, боготворил природу и ремесло. Неудивительно, что поначалу он разделял многие установки «Кампфбунда» и с надеждой относился к политическим переменам в стране. Однако позднее Тессенов в корне переменил свое отношение к происходящему. Шпеер вспоминал: «Я много раз пытался подвигнуть своего учителя Тессенова на участие в конкурсах. Но Тессенов не хотел изменять своему лаконичному стилю и своей любви к ремеслу и маленьким городам. Он упорно держался в стороне от строительства больших монументальных сооружений» [Цит. по: Durth W. Deutsche Architekten: Biographische Verflechtungen 1900–1970. S. 240.]. Когда еще один ученик Тессенова, Рудольф Вольтерс, прислал ему книгу «Новая немецкая архитектура» с предисловием Альберта Шпеера, учитель поблагодарил за подарок, но не нашел нужным скрывать, что не одобряет новых построек, страдая от их «ледяного холода» и «нечеловеческой серьезности, без проблеска улыбки» [Цит. по: Ebert M. Heinrich Tessenow. Architekt zwischen Tradition und Moderne. Weimar; Rostok: Edition m, 2006. S. 136.]. Примерно такую же позицию по отношению к официальным постройкам Третьего рейха к концу 1930-х заняли Рихард Римершмид, Теодор Фишер, Фриц Шумахер, Петер Беренс и Ганс Пельциг.  Эрнст Загебиль. Министерство путей сообщения. Берлин, 1938Не только представители старшего поколения, но и многие молодые архитекторы из числа традиционалистов не скрывали своего глубокого разочарования. Многие из них, как например Пауль Бонатц, эмигрировали, найдя пристанище в тех же странах, что и их недавние противники-модернисты. Другие, оставшись на родине, не побоялись вступить в открытое противостояние с властью, за что поплатились положением и карьерой. На редкость последовательно и смело вел себя Пауль Шмиттенер, который, как мы помним, в конце 1920-х вел активную борьбу с модернистами, в числе первых вступил в «Кампфбунд», а затем и в нацистскую партию. Когда же Шмиттенер убедился, что новая власть несет в себе куда больший потенциал разрушения, чем ее предшественники, он не побоялся подвергнуть резкой критике и ее. В 1935 году Шмиттенер демонстративно покинул ряды «Союза защиты родины». В 1937 году, выступая с докладом «Пути немецкой архитектуры» на Всемирной выставке в Париже, назвал основоположниками современной немецкой архитектуры успевших впасть в опалу Теодора Фишера и Рихарда Римершмида, полностью проигнорировав грандиозные градостроительные замыслы Гитлера – Шпеера. В последующие годы критика Шмиттенера в адрес нацистских построек стала еще более резкой. В 1941 году он использовал официальную трибуну для осуждения монументальных построек Третьего рейха, а позже сумел добиться публикации своего скандального выступления в газете. Главный пафос его статьи сводился к тому, что архитектура, которая служит абстрактной идее и при этом забывает о «маленьких» людях и их повседневных нуждах, по своей сути антигуманна, несет в себе насилие и разрушение. Власти Третьего рейха не без оснований увидели в выступлении Шмиттенера «сознательную провокацию». Он был смещен со всех постов и практически лишился заказов. В последние годы войны архитектор в частном порядке и по собственной инициативе занимался подготовкой к восстановлению разрушенных городов, с ужасом и в то же время нетерпением ожидая неизбежного крушения режима и расплаты за недавние заблуждения. В подобной ситуации оказались почти все его товарищи, дожившие до конца войны. Как уже говорилось, многим из них пришлось понести наказание и в течение долгого времени бороться за восстановление доброго имени и профессиональных прав. Хочется сказать в заключение, что хотя во второй половине ХХ века история свела на нет противостояние модернистов и традиционалистов, обессмыслив конфликт, некогда казавший непреодолимым, осмелимся утверждать, что копья были сломаны не зря. Непомерная страстность в отстаивании своей позиции, а также политическая ангажированность архитекторов, вызывающие сегодня наше недоумение, усмешку или однозначное осуждение, были прямым следствием их искреннего стремления сделать человечество более счастливым. Не вина художников, что многие вдохновлявшие их идеи, в числе которых была и утопическая вера в тотальную переделку мира средствами искусства, превратились в опасное и разрушительное оружие в руках тоталитарных политиков. Деятели искусства едва ли не первыми жестоко поплатились за свои иллюзии. Но не будь у них этих иллюзий, не веди их в течение всей жизни бескорыстная вера в Человека и Красоту, немецкой архитектуре вряд ли удалось бы совершить тот великий прорыв, которому мы обязаны появлением целого ряда художественных шедевров, не говоря уже о стиле, определившем лицо ХХ века. |
|
