Марк Захаров: «Москва изменилась самым революционным образом»
- Наследие
- Репортаж
Как изменилась Москва!
Из унылого серого города, где по вечерам некуда пойти, зато по утрам у всех похмелье, она превратилась в полноценный живой мегаполис. Однако, обретая новые стандарты, город неизбежно утрачивает что-то свое: странное, милое, нелепое. Избежать этого невозможно, но каждому москвичу хочется сохранить СВОЙ город – таким, каким он его помнит, знает, любит. Как мы это делаем обычно? Рассказываем детям и внукам, что где было, гуляем, вспоминая, где первый раз целовались, в какое ходили кино, перебираем старые фотографии, грустим, что этого дома, а то и целой улицы уже нет...
Журнал «Штаб-квартира» решил предложил москвичам не таить эти мемуары для близких, а поделиться ими с читателями. Поговорить о любимом городе, о том, что в нем радует и огорчает. Собрать старые фотографии, разложить их на карте и сочинить эдакий персональный путеводитель. Открывает рубрику главный режиссер театра «Ленком» Марк Захаров.
- Родились, Марк Анатольевич, как все порядочные люди - у Грауэрмана?
- Да, потому что у бабушки были кое-какие связи. Но потом жил на улице Заморенова. Название для меня очень родное, но я бы с удовольствием с ним расстался. Был такой революционер Заморенов, который сам себя так назвал, потому что у революционера обязательно должна быть кличка, как в воровском мире. А я был бы рад, если бы эта улица вернула свое прежнее название: Средняя Пресня. Слово такое хорошее, древнее, речка так называлась, где сегодня Киноцентр. Она ветляла, питала пруды зоопарка, и дальше тоже был пруд, который потом осушили. А рядом был стадион «Метрострой» и 95-ая школа, в которой я учился, ее снесли давно. А я еще помню эту улицу зеленой, цветущей, травы густые, деревья, как в лесу. Такое москвич теперь с трудом увидит.
- Пресня всегда была районом, как сейчас бы сказали, непрестижным…
- Да, район вроде бы неприглядный. Там всегда было много криминала, но я от этого вовремя отошел. Что? Так, мелкое хулиганство. Рядом была Краснопресненская тюрьма (не знаю, что с ней сейчас), сахарный завод – в общем, объективно ценностей никаких, но это были границы моего взаимодействия с городом. Улица Красная Пресня тоже была очень живописна. Конечно, ее надо было реконструировать, но те здания, которые там построили (где спортивный магазин внизу), мне не очень нравятся: неуютные они, не в масштабе человека.
- Человеческий масштаб в старой Москве определялся прежде всего двором…
- Да, конечно! Двор я помню очень хорошо. Как гоняли в футбол, особенно зимой, потому что падать было мягче, а мяч был тряпичный. Помню первый день войны, мне было 7 лет, вокруг сплошной восторг - у детей, у молодежи. Потому что возникло, наконец, пространство для подвига, которого все ждали и к которому готовились.
- А коммуналка - на 38 комнаток всего одна уборная - была?
- Да, именно так, но было еще одно измерение, человеческое. Когда мы с матерью вернулись из эвакуации, оказалось, что квартира наша опечатана и туда должны поселить другую семью. Тогда соседка, у которой была всего одна комната, открыла дверь и сказала: «Живите пока у меня, располагайтесь». Вот такие были порывы, какие сейчас даже представить себе невозможны. Кроме ссор - кому за что платить - было и чувство братства, первобытного, может быть.
- Раз уж Пресня, значит, зоопарк?
- Конечно! В зоопарк ходили часто. В том числе и через забор лазили - со стороны Грузинской улицы. Ходил я туда до тех пор, пока на ограде не появилась мемориальная доска про то, что в зоопарке был Ленин, выступал с какой-то речью. Это было абсолютно комедийное ощущение. Большего удара по ленинскому престижу я себе представить не могу.
- А кинотеатр «Баррикады» входил в зону «своего города»?
- Да, правда, мы метались между ним и кинотеатром на улице Воровского, который назывался «Первым». Там теперь Театр киноактера, а изначально он был построен как Дом политкаторжан. Туда был километр, наверное, очереди на «Багдадского вора». А первый эротический фильм, который обрушился на послевоенную молодежь, был любимый фильм Гитлера «Девушка моей мечты». Но туда не пускали, нам не было 16-ти, и мы страшно переживали. А потом один наш приятель как-то хитро туда протырился и подробно все пересказал. Помню, какие у всех были горящие глаза.
- Историк с психоаналитическим уклоном сразу скажет: так вот откуда растут ноги «Юноны и Авось»!
- Вряд ли. Скорее уж, это «Бродвей». Так в пору нашей молодости назывался кусок улицы Горького от Пушкинской до Охотного ряда. Еще говорили: «Брод». Там был знаменитый рассадник нового мироощущения и каких-то революционных идей. А главная точка – «Коктейль-холл» напротив Ермоловского театра, где кафе «Молодежное» потом было. «Сегодня он коктейли пьет, а завтра планы выдает родного для, советского, завода». Это Бахнов сочинил в ответ Михалкову: «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст». Мне, правда, финансы не очень позволяли проводить там время, но это было «центровое», как тогда говорили, место.
- А где была первая бутылка пива, помните?
- Помню! В Рочдельских банях. Ванн-то в коммуналках не было, ходили в бани, и какой-то криминальный человек из нашего двора налил мне пива. Не понравилось, кстати. Я его много позже, в Чехословакии только распробовал. А первое посещение ресторана – это девятый класс. Пошли пилить дрова с одноклассниками, что-то заработали, и - втроем в ресторан «Центральный» на той же Тверской. Сейчас его уже нет, и это грустно. Вот в Лондоне если был паб три века назад, так он и есть на том же месте, это остается незыблемым. Хотелось бы этот консерватизм английский как-то распространить на Москву, но это идея, наверное, невозможная.
- Но вы же в стенах театра это попробовали, и даже удачно – я имею в виду ресторан «ТРАМ».
- Да, хотелось вспомнить звучное первое название нашего театра. «ТРАМ», правда, стал сейчас местом менее артистическим и более дорогим, но, кажется, считается процветающим. А вообще это таинственная проблема: почему в одно место люди ходят, а в другое – нет. Меня это в Греции первый раз поразило: стоят рядком рестораны, но в одном почему-то никого, а в другом, вроде бы точно таком же – битком. В Москве тоже сложно сделать место, которое вдруг станет любимым. Хотя вот «Пушкин» Андрея Деллоса, мне кажется, очень органично вписался в московскую жизнь. А главное его достоинство, что там нет громкой музыки, можно спокойно разговаривать.
- Часто там бываете?
- Не часто, но бываю. А раньше таким главным рестораном был «Арагви». Послевоенная Москва туда просто рвалась. Хотя там надо было отстоять огромную очередь. С финансами к тому времени стало получше, я был артистом театра Гоголя и студенческого театра МГУ. Это, кстати, тоже было сильное место. Слава его началась с постановок Ролана Быкова, потом Розовский-Аксельрод-Рутберг придумали там «КВН», была еще эстрадная студия «Наш дом»… Но не только люди, сами стены там создавали мощное пространство. Наверное, потому что были намоленными – это же студенческая церковь Татьяны. И это пространство очень ощутимо воздействовало своими импульсами на жизнь театральной Москвы. Я поставил там «Дракона», обрел профессиональный статус, и был в 1965 году приглашен Валентином Плучеком в Театр Сатиры. А тем зарядом, который я получил в театре МГУ, пользуюсь, быть может, до сегодняшнего дня.
- А вот театр Гоголя, куда нас в школе таскали по разнарядке, место, кажется, совсем без заряда…
- Да, это какое-то совершенно инородное тело. На него как-то никогда не обращали внимания, и он существовал как бы сам по себе. Он же и начинался как «Театр транспорта», рудимент военного коммунизма. А я туда пришел как раз, когда его переименовали в «Театр Гоголя», отработав три года в Перми. С трудоустройством было плохо, и сын главного режиссера, Петра Васильева, упросил отца взять меня на работу. Понимая, что никакой актерской ценности я не представляю, тот просто устроил меня на работу. Ну, да, можно сказать, по блату. И там я работал, пока жена не перетащила меня в Театр миниатюр. Его главный режиссер, Владимир Поляков, был знаменит тем, что писал смешные стихи с ненормативной лексикой. Брежнев очень высоко ценил эти шутки, и, зная это, Поляков сумел напроситься к нему в гости и получил по личному распоряжению генсека сцену. Театр был в саду «Эрмитаж»...
- Каток, танцы, духовой оркестр...
- Нет, катка тогда не было, а два театра, нарядные гуляния, популярный ресторан, открытая эстрада, где играл оркестр – все это действительно было, и было очень много народу. Там с удовольствием играл Аркадий Райкин, гастролируя со своим театром, а я тогда учился в 10 классе, и мы регулярно бегали туда с «Бродвея», благо близко. «Эрмитаж» - тоже сильная точка на теле Москвы, потому что там начался МХАТ, хотя самого здания, где работал Станиславский, уже не было, но сохранились какие-то воспоминания... Сейчас там построили прекрасное здание для театра «Новая Опера» безвременно ушедшего Евгения Колобова. Но второго дыхания это пространство тем не менее пока не получило. Любовь, которая к нему была, ушла куда-то…
- А жили вы тогда где?
- Жил в квартире жены, в 4-м Монетчиковском переулке. Телефона не было, помню, бегал звонить на Пятницкую, где было такое специальное телефонное заведение. Но вообще Замоскворечье - район чужой для меня, слишком музейный, что ли. Хотя там было очень много храмов, и страшно хотелось в них зайти. Но они функционировали не по назначению, поэтмоу смотрел издали... И очень мне нравились плавные формы Марфо-Марьинской обители, построенные под влиянием стиля «модерн». Я к нему всегда был неравнодушен, а тогда он считался безвкусным, моветоном. В этом же стиле построен зодчим Ивановым-Шицем и наш театр.
- Я бы все-таки сказал, что модерн здесь только внутри, а снаружи – вполне себе неоклассицизм: симметрия, портик почти ампирный с ионическими колоннами…
- Да? Не знаю, мы всегда были уверены, что это стопроцентный модерн! У меня есть фотографии, нам удалось кое-что восстановить, правда, немного. А вот что касается церкви Рождества в Путинках, то тут я могу позволить себе похвалиться. Каждый день проходил мимо и все время видел замок. А как-то (меня как раз только что назначили главным режиссером) иду, а дверь приоткрыта, и оказалось, что там зверинец! Госцирк держал там животных. И когда началась перестройка, я был тем камушком, который вызвал обвал и революционное движение в отношении этого храма. Мы стали проводить благотворительные концерты, которые назывались «Задворки», и вскоре храм стал храмом. А действующий храм в таком сильном месте - это очень ценно.
- Всегда воспринимал «Пушку» не только как культурный, но как вообще центр Москвы. И то, что она притянула к себе сейчас столько рекламы, говорит, по-моему, ровно за то же...
- Пушкинская площадь – очень сильная точка на теле Москвы. Это мне какой-то интеллектуал рассказал, но и я это остро чувствую. Может, конечно, это все метафизика или даже мистика… Но русские храмы всегда возникали только там, где они являлись закономерным продолжением ландшафта. Особенно это в деревне чувствуется, где каждая церковь очень органично вписывается в среднерусский масштаб. Мне кажется, у католичества этого как-то нет: там храм не всегда имеет под собой корневую систему, уходящую непосредственно в пространство земли окружающей. Конечно, Страстного монастыря не вернуть, но и наш маленький храм – это очень важно.
Кстати, мы как-то увеличили и повесили на стенах театра старые фотографии - какой была Пушкинская площадь до революции. Райком партии был сильно недоволен. Пришла оттуда какая-то начальница и сказала, что это безвкусица и засорение мозгов. А мы искренне любовались этой площадью: Страстной монастырь, Пушкин на той стороне, аптека на углу… Я знаю, что сейчас под площадью будут рыть тоннель, но, мне кажется, он не должен помешать. Вот Мюнхен, город, где я часто бываю, он весь изрыт тоннелями, но они совершенно не портят панорам. Наоборот, дают ощущение простора и свободы – особенно по сравнению с Москвою, где люди упорно паркуются в два ряда…
- Но все ли, что хорошо немцу, русскому сгодится?
- Вы знаете, меня очень удивил Нью-Йорк. Поразило, что эти громадные здания не давят на человека. Наверное, потому что первые их этажи – а это громадные пространства, метров 20-30 в высоту - они связаны с человеком, с его масштабами. Там обязательно идет какая-то городская жизнь: магазины, рестораны, клубы. Все это дает ощущение уютного пребывания в этом месте. У нас же высокое чаще подавляет человека, чем возвышает. Хотя… Возможно, я сам себе противоречу, но мне нравятся высотные дома, я рад, что строится Сити. Вот только название не нравится. Почему «Сити», а не «Великий Посад»? У меня бывают приступы квасного патриотизма, не судите строго, но и «генерал-губернатор» мне нравится больше, чем «градоначальник». Это же полицейская должность была!
- А когда, кстати, появилось словосочетание «Ленком»?
- Это продукт городского фольклора. Впервые услышал это сокращение где-то в начале 60-х годов - применительно к спектаклям Анатолия Эфроса, куда ходила «вся Москва». А идею официально взять это имя начал еще до перестройки внедрять на худсоветах Николай Караченцов. Но получилось это только тогда, когда победили новые демократические идеи.
- Когда они побеждали, мы с такой радостью отрекались ото всего советского… А сейчас - вам не жалко той Москвы, Москвы вашей юности?
- К сожалению (или к счастью?), все меньше становится людей, которые помнят Москву 20-летней давности. А это ведь был унылый, грязный, темный город с пустыми витринами, с очень незначительным автомобильным движением. И когда люди возвращались из-за границы, они тут же впадали в депрессию. В разной, может быть, степени, но у всех это было.
И вдруг произошел революционный бросок. Москва превратилась в европейскую столицу: в красивый цветущий мегаполис. Все эти перемены я связываю, конечно же, с именем Юрия Михайловича Лужкова. Он и его команда были настроены на быстрое изменение облика города, его социального, психологического и эстетического характера. От того, что делалось это стремительно, некоторым революционным образом, были, конечно, и ошибки, и просчеты. И может быть, прав Лев Колодный, который на страницах «Московского комсомольца» иногда обрушивает справедливые упреки, что упускаются какие-то важные архитектурные моменты и разрушаются некоторые памятники. Но я думаю, надо очень осторожно относиться к зачислению того или иного сооружения в памятники архитектуры, который никак нельзя трогать.
Возьмите Амстердам. Там очень осторожно изымаются пришедшие в ветхость какие-то сказочные андерсоновские домики. Кое-где возникает современная архитектура, но она удивительным образом рифмуется со старой. При этом она не подделывается под старину, не имитирует старый Амстердам. Находятся совершенно новые линии, но они каким-то образом становятся родными тому, что их окружает. И в Москве этот процесс начинает доминировать. Юрий Михайлович – человек необыкновенно творческий, увлекающийся, но благодаря его самокритичности градостроительный процесс, мне кажется, входит сейчас в цивилизованное русло.
- Вы его очень трогательно пытаетесь все время объяснить - прямо как художник художника!
- Возможно, я не вполне объективен. Он очень много нашему театру помогает. Но я действительно отношусь к архитектуре как к творческому акту, считаю ее таким же искусством, как и всякое другое. А в искусстве большинством голосов мало что можно решить. Если бы на всенародное рассмотрение был отдан, допустим, вопрос о сооружении храма Василия Блаженного, то народ, вполне возможно, был бы против. Но так же и к Эйфелевой башне парижане долго привыкали. И к центру Помпиду сначала относились с ненавистью, потом с юмором, и только в последние годы оценили все его своеобразие.
- Я как-то беседовал с господином Ресиным о памятнике Петру Первому, так вот он ровно то же самое заявил: что москвичи его не принимают, так же как парижане не принимали Эйфелеву башню. Пройдет, мол, время – полюбят. Но вы-то, как художник, понимаете, что тут есть некоторая разница?
- Согласен, такая параллель вряд ли уместна. Петр Первый это что-то другое. Но вот, скажем, новая гостиница «Интурист» – я думаю, это движение в сторону цивилизации.
- А я не уверен. Мне жалко и старый «Интурист», и «Минск», и даже «Россию». Это была простая, но честная архитектура. А будет вместо них очередная декорация. Что уж говорить о грядущем «фальшаке» гостиницы «Москва».
- Я никогда не был в восторге от сталинской архитектуры, которая чудовищным образом распустилась на ВДНХ и на некоторых станциях метрополитена. Попытки еще раз воспроизвести это кажутся кичем, мне вполне достаточно тех памятников, к которым мы привыкли. Тех же сталинских высоток, которые постепенно стали органичной частью Москвы. Не сразу, но стали.
Но вообще, когда есть какое-то волевое творческое решение, оно непременно вызывает нарекания. А в том же Париже барон Осман не побоялся разрушить некоторые средневековые улицы, представлявшие, наверное, большую историческую ценность. Проложил волюнтаристским образом Большие бульвары - и лишь через много лет они были признаны украшением города.
Многие москвичи тоже не понимают, что сделал Юрий Лужков как самый талантливый градоначальник за всю историю Москвы. А ведь он превратил Москву в совершенно новый город. Если ли у меня претензии? Конечно! Например, мне кажется, что в Москве слишком много наружной рекламы. Но это признает и главный архитектор, с которым я как-то беседовал на эту тему. Да, здесь было нарушено чувство меры, и теперь вернуться в прежнюю благородную простоту и сдержанность очень трудно. Мне жаль, что многие замечательные московские улицы и площади загромождены щитами рекламы с зачастую глупыми названиями. Недавно видел такое: «новое молоко». А можно еще посоветовать: «новое евромолоко»! Все это вызывает страшное ворчание со стороны многих старожилов, и с моей в том числе. Но я думаю, что это издержки роста.
- А какие еще места в Москве представляются вам ключевыми?
- Кремль, конечно, где недавно был на дне рождения Бориса Николаевича; арбатские переулки, где любил гулять, но в последнее время редко там бываю. Раньше Арбат был местом очень праздничным. А после реконструкции он притягивает громадное количество негативных эмоций, дух криминала там витает. Странно даже, что Вахтанговский театр оказался вдруг в такой-то неблагополучной зоне. Вроде бы все было сделано правильно, но, видимо, не учитывалась ментальность, что-то там такое есть тревожное, грязноватое. Может быть, надо больше сделать скамеечек или каких-то демократических мест общепита, не знаю… А вот с Камергерским переулком получилось: это образец бережного внимания и вместе с тем – модернизации, умелой и тактичной. Меня все время тянет там пройтись, зайти в артистическое кафе, куда захаживали мхатовские светила…
- А вы вообще по Москве пешком сейчас ходите?
- Нет, только езжу, к сожалению. Даже из дома до работы, хотя это совсем рядом. Просто в какой-то момент примелькался на телевидении, стали узнавать, и дорога в театр стала занимать слишком много времени.
- А в метро бываете?
- Знаете, тут есть такой неприятный момент: в моем возрасте все время думаешь, что что-то делаешь в последний раз… Караченцов мне как-то сказал: «У меня столько книг, а я тут вдруг понял, что никогда их не прочту уже». Вот и я, когда в метро очутился, так подумал: наверное, в последний раз.
- Чтобы не заканчивать на грустной ноте, давайте, Марк Анатольевич, вспомним, какое еще место мы забыли нанести на карту «вашей Москвы».
- Забыли мы знаменитый кооператив «Тишина», угол улицы Чехова, нынешней Малой Дмитровки, и Садового кольца. «Тишина» - потому что дом просто сотрясался от грохота автомобилей. У нас окна были как раз на Садовое. Этаж, правда, 14-й, так что пыли особенной не было, зато рев был аэродромного типа. Там было такое творческое братство, все имели какое-то отношение к театру, кино, литературе. Или, по крайней мере, по административной линии. Эта «тусовка», как сейчас бы сказали, совсем не раздражала, наоборот: было очень удобно, потому что всегда можно было занять денег. А это как раз был период, связанный с финансовыми трудностями. Хотя выезжал я из очень стесненных жилищных условий (в Монетчиковском у нас было 80 метров на четверых), и уехать в трехкомнатную квартиру – это был рывок в новую жизнь.
Там все время собирались компании, выпивали, конечно, постоянно. Наш сосед, писатель Михаил Анчаров, писал сценарии для телесериала (хотя слова такого тогда еще не было) про жизнь некоего дома - и брал сюжеты, буквально не выходя из квартиры. А напротив была замечательная лавочка страшного, правда, вида, «Горячие бублики» называлась. Я покупал там булочки, а дочь - горячие пончики. А потом, в 1977 году мы переехали на Тверскую, где и живу. Дачи у меня нет, я человек городской. На лыжах все только собираюсь. А на горных даже и не пробовал. Стоял однажды на вершине, но поехать вниз – духу не хватило. Только из светской хроники и узнаю, что у нас там с лыжами происходит.

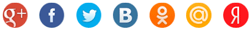 comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
тема:
Прогулки по Москве
 Марк Захаров
Марк Захаров